Чародеи - [77]
На самом ли деле кровь Дзага сообщает отпрыскам нашего родового корня тот дар предвидения, что привел меня, одержимого мрачным предчувствием, в это место, заставляя действовать помимо моего сознания? Или Судьба решила немного поразвлечься за мой счет?
Я был в нескольких метрах от прибрежных зарослей, когда услышал слабый стон; сначала я не понял, был ли то случайный эффект от игры, затеянной потоком на перекате, или сонный вздох неведомой твари. Однако я различил человеческое присутствие, так как после глубоко взволновавшего все мое существо сладострастного дрожания на одной ноте стон перешел в крик, пронзавший воздух с такой силой, что я невольно поднял глаза, словно пытаясь уследить звенящие струи, летящие к своей невидимой цели. Потом наступила полная тишина. Я оставил лодку и, осторожно прокладывая себе путь через тростники, сделал несколько шагов по воде вдоль прибрежного кустарника.
Я отодвинул ветки и очутился перед тем, что не могу назвать иначе как светопреставление: все вокруг меня почернело, небо погасло, и я был возвращен к жизни лишь раздирающей сердце болью; по этому знаку я с трудом понял, что жизнь по-прежнему находит какое-то удовольствие в общении со мной.
Терезина, моя Терезина, совершенно обнаженная лежала в объятиях этого француза, изменника цивилизации, который, чтобы утолить уж не знаю какую личную обиду на общество, какую чудовищную жажду крови, примкнул к диким зверям Пугачева, погряз с извращенной радостью во всех тех мерзостях, что подонки общества изрыгают из себя, когда проснутся в их глубинах самые низкие и грязные инстинкты плебса! Этот агнец, никогда не находивший ничего привлекательного в объятиях, теперь крутился как угорь под тяжестью врага рода человеческого, обходившегося с ней без всякого намека на бережное обращение, подобающее созданию мечты.
Я давно не был желторотиком, пройдя курс наук в лучших борделях Петербурга, где мне не отказывали ни в чем запретном. Но никогда я не видел, чтобы двое использовали друг друга с такой жадностью, с таким остервенением, сплетая прелести, коими одарены наши тела, без малейшего уважения к законному предназначению и к местам, на которые их поставила природа. Но самое бесчестное, самое низкое состояло в том, что, поставленный перед крушением всей моей сущности, всех моих самых сладостных иллюзий и мечтаний, обкраденный моей любовью, я не имел сил бежать и продолжал стоять на месте, растравляя и подпитывая свое страдание зрелищем этих забав, прекращения которых жаждала моя скорбь, а продолжения — мое любопытство. О, как трудно иногда понять душу артиста, соль искусства! Хотелось бы верить, что я создал тогда запас страдания и отчаяния, который мог позволить мне теперь жить в согласии с собой и встречать с безразличием несчастливые минуты, ежели они меня настигнут. Этой броне, которую я стал носить после того, как удар несчастья столь рано пробил брешь в моем существовании, я обязан своей репутацией человека, которого ничто не в силах глубоко уязвить.
В течение последующих дней я ничего не сказал отцу — я боялся, как бы он не умер. Таким образом, я один пережил эти муки, не в силах разделить их с тем, кому они принадлежали по праву. Я оставил все страдания себе: каждую ночь я возвращался на место казни.
И все же я находил странное утешение в том, что Терезина счастлива. Не могу объяснить, откуда у венецианца появилась такая широта взглядов, может быть, моя любовь к ней столь прочно обосновалась в моем воображении, что мечта о ней не могла быть затронута и разрушена никаким проявлением низкой действительности.
Во всяком случае, каждый вечер я покидал лагерь и скакал к проклятому месту их свиданий. Там, проскользнув сквозь листву, я хладнокровно наблюдал всю сцену незамутненным взором. Я не предполагал в себе такой широты, такого участия к чужой радости. Сегодня я говорю себе, что таким образом я искал средство от своего любовного недуга, подвергал свои сказочные сны испытанию самой низкой действительностью. Но мечта всякий раз выходила победительницей из этого испытания огнем: ничто внешнее не могло поколебать моего призвания иллюзиониста. Терезина всегда возвращалась чистой из этих объятий, из попытки экзорцизма, которому подвергало ее мое воображение. Я продолжал мечтать о ней, я вновь придумывал ее с несказанной нежностью. Мечта становилась моей тайной натурой. И поскольку я обещал здесь не скрывать ничего из того, что о себе знаю, должен признаться вам, что мне часто случается ставить на мечту, не оставляя ее противнице Реальности более половины дохода, — этим, может быть, объяснимо мое долгожительство, столь удивлявшее многих, ибо, живя в реальности лишь наполовину, совершенно естественно, предположить, что мой запас жизни прирастает вдвое.
Иногда мне случается сомневаться в том, что эти нежности на островке, которые я вижу ясно, как сейчас, в действительности имели место, — не знаю, является ли это сомнение уловкой, призванной оградить мою мечту — или целомудренность моих читателей. Иногда мне кажется, что я все выдумываю, в том числе и себя, и не знаю, что это — умение чрезвычайно ловко ускользать от страдания, игра, которую я, старый лукавый кот, не умеющий забыть и плетущий интригу, веду с мышами воспоминаний, — или я взбалтываю эту болезненную муть, чтобы окунуть свое перо в свежую боль, столь благоприятствующую творению, ведь ничто не подпитывает лучше плод литературного труда. Я существую, друг читатель, лишь для твоей услады, все прочее — лишь жульничество, злостный обман. Все, в чем я уверен, — что я сижу у огня у себя дома на улице Бак, осмеянный и презираемый за свою безграничную преданность ремеслу чародея, такому немодному сегодня; на моих коленях — тетрадь, на голове — вольтеровский колпак, хранивший меня от сквозняков на протяжении столетий, я почесываю с плутоватым видом кончик носа, достойный потомок Ренато Дзага, выворачивающий карманы своей жизни, чтобы не упустить ничего, что могло бы обогатить мое повествование. А все прочее — история, и я пристально вслушиваюсь в ее бормотанье, ведь и в ней можно отыскать кое-что подходящее. Помню, однако, как я сказал однажды отцу после ухода Терезины:

Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.Перевод с французского Елены Погожевой.

Роман «Пожиратели звезд» представляет собой латиноамериканский вариант легенды о Фаусте. Вот только свою душу, в существование которой он не уверен, диктатор предлагает… стареющему циркачу. Власть, наркотики, пули, смерть и бесконечная пронзительность потерянной любви – на таком фоне разворачиваются события романа.

Роман «Корни неба» – наиболее известное произведение выдающегося французского писателя русского происхождения Ромена Гари (1914–1980). Первый французский «экологический» роман, принесший своему автору в 1956 году Гонкуровскую премию, вводит читателя в мир постоянных масок Р. Гари: безумцы, террористы, проститутки, журналисты, политики… И над всем этим трагическим балаганом XX века звучит пронзительная по своей чистоте мелодия – уверенность Р. Гари в том, что человек заслуживает уважения.
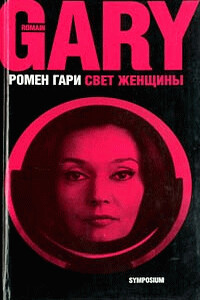
Ромен Гари (1914-1980) - известнейший французский писатель, русский по происхождению, участник Сопротивления, личный друг Шарля де Голля, крупный дипломат. Написав почти три десятка романов, Гари прославился как создатель самой нашумевшей и трагической литературной мистификации XX века, перевоплотившись в Эмиля Ажара и став таким образом единственным дважды лауреатом Гонкуровской премии."... Я должна тебя оставить. Придет другая, и это буду я. Иди к ней, найди ее, подари ей то, что я оставляю тебе, это должно остаться..." Повествование о подлинной любви и о высшей верности, возможной только тогда, когда отсутствие любви становится равным отсутствию жизни: таков "Свет женщины", роман, в котором осень человека становится его второй весной.
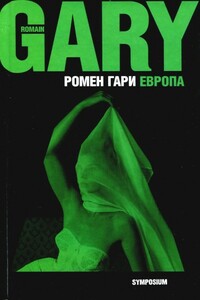
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.
