Целую ваши руки - [43]
Тихое согласное пение – хор мужских и женских голосов – неслось изнутри, из холодного полумрака, рассыпчатого, золотисто-желтого блистания свечных огоньков.
Мы вошли внутрь – и уперлись в спины, закрывавшие то, что было впереди, откуда исходило пение. С нашего места можно было видеть только низкие темные своды над головой, в сырых потеках, пятнах сохранившейся штукатурки, похожих на лишаи, наросшие на трухлявых, крошащихся от старости кирпичах. На прямоугольных колоннах, подпиравших своды, на стенах справа и слева висели иконы разной величины, в золоченых и серебряных окладах и без всякого обрамления. Их было, если посчитать, может быть, и не так уж мало, но все же на стенах и колоннах оставалось много пустоты; и эта пустота ничем не заполненных темно-бурых кирпичных стен, по спешке или из-за отсутствия материалов даже не побеленных, не приведенных в благообразный вид, остававшихся такими, какими они были при существовавшем здесь складе, совсем умаляла убранство, делала его бедным и жалким.
– По деревням, по бабкам собирали у кого что осталось… – точно бы отвечая на мои мысли, вполголоса произнес кто-то рядом, так же, как мы с Кирой, оглядывая развешанные иконы.
Слева от нас, опустившись коленями на каменные плиты пола, под ногами у вокруг стоящих, низко кланялась деревенская старуха, при каждом поклоне опираясь руками о пол и припадая к нему лбом. В очередной раз она припала к полу почти плашмя и не выпрямилась, надолго замерла так неподвижно, то ли что-то шепча про себя, то ли в ожидании услышать своим внутренним слухом какой-то отзвук на свои моления. Ее крестьянская, длинная и широкая, вся в сборках, юбка полностью покрывала ее ноги, до самых пят; приподымая ее край, сзади старухи торчали огромные подошвы валенок, подшитых толстым войлоком, видно служащих, как это стало не редкостью от нехваток военного времени, всей семье, в основном, ходящим на колхозную работу, и теперь надетых этой старухой, бобяковской, масловской или гололобовской, для двадцативерстного путешествия в город, для этих ее поклонов до самого пола, каких-то ее насущных, дорогих ей просьб, что она хочет высказать, того ответа на них, что она надеется услышать. Мое внимание больше всего привлекли ее валенки. В этих валенках, нелепо огромных, не по маленькой иссохшей старухе, растоптанных всей семьей, стоящих носками на плитах пола, пятками вздирающих подол мокрой, черной, оббитой юбки, было что-то знакомое, где-то уже виденное… Где же я мог видеть нечто подобное, такие же огромные подошвы, которыми месили и грязь, и снег, в которых запечатлелось так же много, целая повесть жизни, судьбы, времени, как в этих, на ногах припавшей к полу старухи?..
Перед глазами у меня вдруг всплыли суриковские стрельцы, дряхлая мать, от которой отняли сына, закаменевшая в своем горе, ее огромные, выставленные вперед, на зрителя, растоптанные лапти, в которых – как это не выразилось даже в ее лице, согбенной фигуре – вся ее безмерно тяжкая доля…
Пожилой железнодорожник с короткостриженой, серебряной от седины головой, что входил вместе с нами, стоял в двух шагах от нас с Кирой.
– Сегодня какой-нибудь праздник? – спросил я у него на ухо.
– А Василия же Великого… Это литургия, иначе говоря, обедня, но служит преподобный Антоний. Будет говорить проповедь, – ответил железнодорожник с той же благожелательностью, опять будто совершенно не замечая во мне только любопытствующего, так, как, вероятно, разъяснил бы кому-либо из «своих», опоздавшему или неосведомленному.
Я кивнул, благодаря железнодорожника за ответ и еще как бы в знак понимания, хотя совсем неясно представлял себе, что такое «обедня», что значит «преподобный».
Стараясь не вертеть заметно головой, я повел глазами влево, вправо. Нет, не одни ветхие старики и старухи собрались в церкви, в толпе были мужчины и женщины среднего возраста, были и совсем молодые, даже подростки, дети, – этих, очевидно, привели с собой матери и отцы. Все вместе они являли собою причудливую, невозможную больше нигде мешанину «одежд и лиц»: старомодные плисовые жакетки, еще сохранившиеся в деревнях и надеваемые «на выход», по праздничным случаям, овчинные полушубки и замызганные стеганки, всех фасонов куртки и пальто и та городская одежда, какую носят разного рода служащие. Кто, например, вон тот, лет пятидесяти с лишним человек: черное драповое пальто, не новое, но аккуратное, в порядке и чистоте, с каракулевым воротником, морщинистое, тщательно выбритое лицо, коротко подстриженные усы, овальные очки в белой железной оправе… По наружности – бухгалтер, счетный работник, чаще всего они такие аккуратные, вычищенные, следящие за собой, скромного вида, в котором, однако, и достоинство, и самоуважение…
Нам с Кирой хотелось видеть, что впереди, там, где во всю высоту стены в несколько рядов висят иконы, поет хор и на возвышении, вроде как на сцене, находятся священнослужители в ярком свете множества свечей и – это крайне удивляло меня – электрических рефлекторов. Электричество в церкви! Об этом я никогда не слышал, не мог себе этого вообразить, это казалось странным, невозможным. Несколько минут я был занят рассматриванием только этих театральных рефлекторов, которые делали возвышение со священниками совсем похожим на сцену, а церковную службу – каким-то странным, костюмированным спектаклем.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
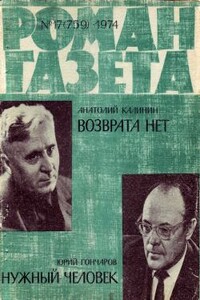
«…К баньке через огород вела узкая тропка в глубоком снегу.По своим местам Степан Егорыч знал, что деревенские баньки, даже самые малые, из одного помещения не строят: есть сенцы для дров, есть предбанничек – положить одежду, а дальше уже моечная, с печью, вмазанными котлами. Рывком отлепил он взбухшую дверь, шагнул в густо заклубившийся пар, ничего в нем не различая. Только через время, когда пар порассеялся, увидал он, где стоит: блеклое белое пятно единственного окошка, мокрые, распаренные кипятком доски пола, ушаты с мыльной водой, лавку, и на лавке – Василису.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
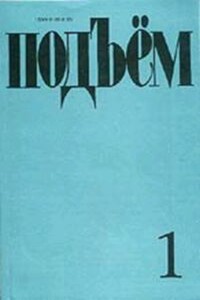
«… И вот перед глазами Антона в грубо сколоченном из неструганых досок ящике – три или пять килограммов черных, обугленных, крошащихся костей, фарфоровые зубы, вправленные в челюсти на металлических штифтах, соединенные между собой для прочности металлическими стяжками, проволокой из сверхкрепкого, неизносимого тантала… Как охватить это разумом, своими чувствами земного, нормального человека, никогда не соприкасавшегося ни с чем подобным, как совместить воедино гигантскую масштабность злодеяний, моря пролитой крови, 55 миллионов уничтоженных человеческих жизней – и эти огненные оглодки из кострища, зажженного самыми ближайшими приспешниками фюрера, которые при всем своем старании все же так и не сумели выполнить его посмертную волю: не оставить от его тела ничего, чтобы даже малая пылинка не попала бы в руки его ненавистных врагов…– Ну, нагляделись? – спросил шофер и стал закрывать ящики крышками.Антон пошел от ящиков, от автофургона, как лунатик.– Вы куда, товарищ сержант? Нам в другую сторону, вон туда! – остановили его солдаты, а один, видя, что Антон вроде бы не слышит, даже потянул его за рукав.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.

В книге рассказывается о героических делах советских бойцов и командиров, которых роднит Перемышль — город, где для них началась Великая Отечественная война.

Мицос Александропулос — известный греческий писатель-коммунист, участник движения Сопротивления. Живет в СССР с 1956 года.Роман-дилогия состоит из двух книг — «Город» и «Горы», рассказывающих о двух периодах борьбы с фашизмом в годы второй мировой войны.В первой части дилогии действие развертывается в столице Греции зимой 1941 года, когда герой романа Космас, спасаясь от преследования оккупационных войск, бежит из провинции в Афины. Там он находит хотя и опасный, но единственно верный путь, вступая в ряды национального Сопротивления.Во второй части автор повествует о героике партизанской войны, о борьбе греческого народа против оккупантов.Эта книга полна суровой правды, посвящена людям мужественным, смелым, прекрасным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая повесть известного лётчика-испытателя И. Шелеста написана в реалистическом ключе. В увлекательной форме автор рассказывает о творческой одержимости современных молодых специалистов, работающих над созданием новейшей авиационной техники, об их мастерстве, трудолюбии и добросовестности, о самоотверженности, готовности к героическому поступку. Главные герои повести — молодые инженеры — лётчики-испытатели Сергей Стремнин и Георгий Тамарин, люди, беззаветно преданные делу, которому они служат.

Origin: «Радио Свобода»Султан Яшуркаев вел свой дневник во время боев в Грозном зимой 1995 года.Султан Яшуркаев (1942) чеченский писатель. Окончил юридический факультет Московского государственного университета (1974), работал в Чечне: учителем, следователем, некоторое время в республиканском управленческом аппарате. Выпустил две книги прозы и поэзии на чеченском языке. «Ях» – первая книга (рукопись), написанная по-русски. Живет в Грозном.

В 1937 г., в возрасте 23 лет, он был призван на военные сборы, а еще через два года ему вновь пришлось надеть военную форму и в составе артиллерийского полка 227-й пехотной дивизии начать «западный» поход по Голландии и Бельгии, где он и оставался до осени 1941 г. Оттуда по просьбе фельдмаршала фон Лееба дивизия была спешно переброшена под Ленинград в район Синявинских высот. Итогом стала гибель солдата 227-й пд.В ежедневных письмах семье он прямо говорит: «Мое самое любимое занятие и самая большая радость – делиться с вами мыслями, которые я с большим удовольствием доверяю бумаге».