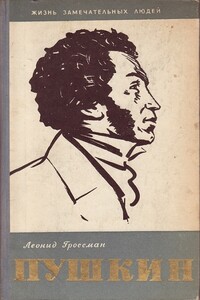Цех пера: Эссеистика - [60]
Но здесь романический и общественный моменты часто заслоняют те чисто живописные ценности, которые остаются для Тургенева высшими творческими абсолютами. Единственная книга, в которой неопытный еще автор позволил себе роскошь полней всего отдаться своим художественным влечениям, менее всего осложняя их привходящими «динамическими» мотивами, остается прекрасная в своей композиционной наивности и непосредственности его первая книга охотничьих рассказов. В ней поэтому легче всего вскрываются основы тургеневского стиля и с наибольшей четкостью обнаруживаются принципы построения его позднейших созданий. Мы присутствуем здесь при первых робких усилиях художника строить свой рассказ по каноническим законам движения, действия и борьбы, т. е. по законам, еще глубоко чуждым его художнической натуре.
Так композиция «Записок охотника» возвещает архитектонические приемы зрелого Тургенева. Его роман в своей подпочве и первооснове остается таким замечательным собранием глубоко самоценных портретов и пейзажей, приведенных в движение столкнувшимися устремлениями сердечных или социальных коллизий.
Натурализм Чехова
«В Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник», — пишет Чехов в своих письмах, и не в этой ли краткой фразе он со своей обычной сжатостью выразил и свое воззрение на совершенного художника и меткую характеристику собственного творчества?
Естественник, медик, биолог, анатом как бы составляют в Чехове тот коренной, прямолинейный, строго очерченный стержень, вокруг которого волнисто вьется душистая и многоцветная, росисто-свежая и бархатисто-нежная флора его неподражаемой поэзии. Ланцетом хирурга он систематически проводил первые глубокие надрезы в рыхлом житейском материале своей экспериментальной лаборатории, чтоб затем подчинить его обработке всех тонких резцов и шелковисто-мягких кистей своей художественной студии. С терпением ученого исследователя он производил свои опыты точного наблюдения действительности и с профессиональной беспощадностью оператора рассекал трепещущие ткани жизни, чтоб безотчетно отдаться затем всем очаровательным случайностям ее красок и оттенков, всей импровизации ее звуков, шорохов и полутонов.
И это богатство цельной, неразложимой, вечно торжествующей жизни так решительно пробуждало в натуралисте поэта, в бесстрастном вивисекторе вдохновенного художника, в холодном позитивистве нежнейшего лирика, что лучезарное сияние алмазных звезд, которыми он так волшебно усеивал сумеречное небо своих рассказов, совершенно затмевало холодные отблески стекла и стали его врачебной лаборатории.
Чехов-врач неотделим от Чехова-писателя. Недаром в бесконечной галерее его образов с особенной любовью отмечены двойственные типы поэтов-химиков или врачей-философов. С какой симпатией изображает он кроткого доктора Рагина, который готовился в духовную академию, но попал по недоразумению на медицинский факультет, аккуратно получает журнал «Врач», но всей медицинской мудрости предпочитает Марка Аврелия, Эпиктета и даже беседу со своими сумасшедшими клиентами. И как характерен для Чехова его увлекающийся Ярцев, этот фиолог и магистр химии, педагог и драматург, который так походит на историка, когда говорит о зоологии, и так напоминает естественника, когда решает исторические вопросы. Даже рассудочный эгоист доктор Благово проявляет склонность к утопическим мечтаниям и любит говорить о таинственном иксе, ожидающем человечество в далеком будущем.
«Все гинекологи идеалисты, — категорически утверждает Чехов в письме к одной писательнице. — Ваш доктор читает стихи, чутье подсказало вам правду; я бы прибавил, что он большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене во вкусе некрасовской русской женщины».
И конечно не случайно он помещает поэта Некрасова в число немногих друзей своего профессора-медика из «Скучной истории». Герой этого чеховского шедевра — один из самых цельных и привлекательных образов в галерее его поэтов-мудрецов. Ветеран науки, трогательно преданный точному знанию, накануне своей смерти мечтающий воскреснуть через столетие, чтоб хоть одним глазком взглянуть на успех своих преемников, этот фанатик исследования и опыта сохраняет в своей мещанской обстановке какие-то чисто артистические наклонности и неизменно вносит в научную работу принципы поэтического творчества. Он любит красивую одежду и хорошие духи, классический театр и французские романы, а в лекции свои, помимо научных сведений, вкладывает еще вдохновение, страстность и юмор настоящего оратора-художника. На университетской кафедре он ставит себе образцом хорошего дирижера, и главная научно-педагогическая задача его чтения никогда не заслоняет в нем художественной озабоченности о литературности изложения, о красоте фразы и меткости своевременного каламбура. При этом он с нескрываемым презрением относится к серым работникам науки, добросовестно изготовляющим свои бесчисленные препараты и рефераты, компиляции и переводы. С чутьем истинного поэта он верит, что настоящее знание только там, где есть вдохновение и творчество, фантазия, изобретательность, чуткое умение угадывать, великая способность к тем мучительным сомнениям и разочарованиям, от которых седеют таланты.
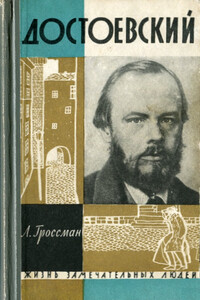
В книге подробно описана драматическая судьба классика русской литературы Ф. М. Достоевского, начиная с юности и заканчивая последним десятилетием жизни.

В книге известного литератора Леонида Гроссмана на фоне авантюрно-романтической судьбы каторжника Аркадия Ковнера, вступившего в полемическую переписку с «антисемитом» Достоевским, поднимается один из «проклятых» вопросов российского общества — еврейский.

В книгу известного писателя и литературоведа Л. П. Гроссмана (1888–1965) вошли два наиболее известных исторических романа.«Бархатный диктатор» рассказывает о видном российском государственном деятеле – графе, генерале М. Т. Лорис-Меликове.«Рулетенбург» (так первоначально назывался роман «Игрок») посвящен писателю Ф. М. Достоевскому.
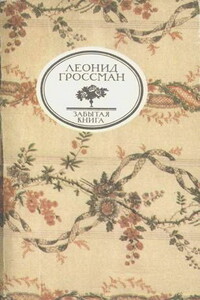
Трагический эпилог жизни Пушкина — такова главная тема исторического романа, названного автором «Записки д'Аршиака». Рассказ здесь ведется от имени молодого французского дипломата, принимавшего участие в знаменитом поединке 27 января 1837 года в качестве одного из секундантов. Виконт д'Аршиак, атташе при французском посольстве в Петербурге, как друг и родственник Жоржа д'Антеса, убийцы Пушкина, был посвящен во все тайны дуэльной истории, а как дипломатический представитель Франции он тщательно изучал петербургские правительственные круги, высшее общество и двор Николая I.
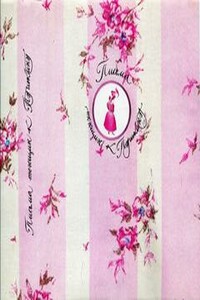
В сборник включены известные издания переписки Пушкина с его современницами, а также воспоминания о Пушкине М. Н. Волконской, Н. А. Дуровой, А. П. Керн и др. Письма предварены статьей Л.Гроссмана об особенностях эпистолярной культуры в эпоху Пушкина.

Этот текст Уоллес написал где-то в 22 года и опубликовал в универском журнале. Текст целиком посвящен черной, гнетущей депрессии. Впрочем, здесь она другого рода, нежели в «Женщине».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.

Роман «Серапионовы братья» знаменитого немецкого писателя-романтика Э.Т.А. Гофмана (1776–1822) — цикл повествований, объединенный обрамляющей историей молодых литераторов — Серапионовых братьев. Невероятные события, вампиры, некроманты, загадочные красавицы оживают на страницах книги, которая вот уже более 70-и лет полностью не издавалась в русском переводе.Эссе о европейской церковной музыке в форме беседы Серапионовых братьев Теодора и Киприана.

Эссе о стране, отделённой Великой стеной, на сорок веков замкнутой от внешнего мира, где исповедуют другие религии, где были другие исторические традиции и другое мировоззрение. Взгляд на происходящее с той стороны стены, где иная культура и другой образ мышления. Отличаются ли системы ценностей Запада и Востока?

Один из четырех биографических романов известной английской писательницы, посвященных выдающимся людям Европы восемнадцатого столетия, времени, заслуживающего, с ее точки зрения, самого пристального интереса. Вспыхнувшее с первого взгляда чувство на многие годы связало двух ярчайших его представителей: гениального Вольтера и "Божественную Эмилию", блистательную маркизу дю Шатле. Встреча великого мыслителя и писателя с этой незаурядной женщиной, светской дамой, обожавшей роскошь, развлечения и профессионально занимавшейся математикой, оказала огромное влияние как па его личную, так и на творческую судьбу.