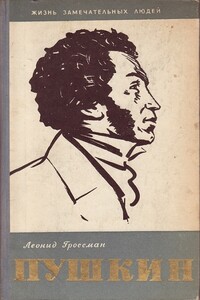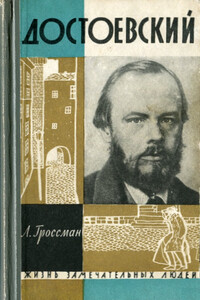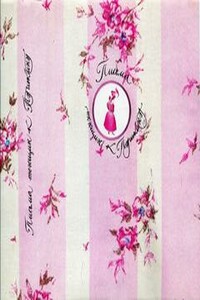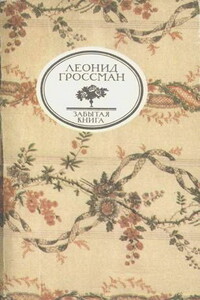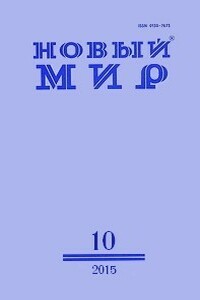Ее литературная наличность напоминает в этом смысле судьбу французского поэта Эредиа, который стал избранником Академии за один небольшой сборник сонетов. Ее судьба наводит на мысль и другое более близкое нам имя — имя Тютчева, о единственной книге которого было так прекрасно сказано Фетом:
Эта книга небольшая
Томов премногих тяжелей…
Замкнутый лаконизм этой лирики насыщен таким обилием эмоций, образов, воспоминаний, впечатлений и раздумий, что в этих коротких строфах, в этих немногих книгах, в этих «малых формах» сосредоточено одно из самых крупных лирических богатств современности. Творчество Ахматовой, о котором нередко говорили, как о слишком тесно очерченном, узком круге мотивов с пристрастием к одной доминанте «неразделенной любви», являет широкое многообразие лирических тем и поэтических приемов. При внешней замкнутости диапазон ее творчества так обширен и глубок, сжатые формы ее маленьких поэм так напоены драматизмом, каждый образ открывает такие неограниченные возможности видений и созерцаний, что мы понимаем признание поэтессы:
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово…
Это поистине прообраз всего ее творчества.
III
Когда стремишься определить облик поэта, выявить его черты, найти формулу для определения его сущности, необходимо дать ответ на два вопроса: как художник видит мир, и какой смысл раскрывается ему в этом видении.
Как видит мир Анна Ахматова? Верная в этом смысле заветам акмеизма, она могла бы сказать вслед за Теофилем Готье: «Я принадлежу к тем, для кого видимый мир существует». Одно из главных очарований ее поэзии — это зоркость к вещной ткани действительности, которая такими острыми чертами запечатлелась в ее лирике. Поэтесса имела право сказать о себе: «замечаю все, как новое…» Неожиданными, непривычными, словно смытыми от всех примелькавшихся впечатлений, выступают в ее мгновенных зарисовках все эти тюльпаны в петлицах, устрицы во льду, хлысты и перчатки и даже в отдалении времен —
треуголка
и растрепанный том Парни
В таких же ракурсах, доведенных иногда до одного выразительного и живописного эпитета, схвачены беглые пейзажи Ахматовой: «тверская скудная земля», «ковыли приволжских степей» под дыханием восточного ветра —
Таинственные темные селенья,
Хранилища молитвы и труда…
И каким-то чудом, сквозь мгновенные очертания мелькнувшего образа перед нами раскидываются огромные безбрежные и грустные просторы с их селениями, садами, пашнями, парками, реками, морями. Из заветного круга женской лирики незаметно, но отчетливо, во всех ее бесчисленных природных и культурных контрастах, выступает Россия…
И в этой огромной картине особенно примечательна та особая живопись городов, к которой постоянно обращает Ахматову ее тонкий культурный инстинкт. Эти, по слову Тургенева, «каменные красавицы» не только служат фоном для тех любовных повестей, которые замыкаются поэтессой в скупые строки ее фрагментов, — они являются самоценным материалом для ее замечательной словесной графики.
Центр этих беглых этюдов — вечно миражная и притягательная столица, которая зачерчена в русской литературе такими великими мастерами, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок. «Пышный, гранитный город славы и беды» не перестает привлекать ее творческое внимание. «Темный город у грозной реки», «город, горькой любовью любимый» служит темой замечательных офортов нашей поэтессы. Она любит:
Широких рек сияющие льды
Бессолнечные мрачные сады
и знаменитую площадь, где —
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь великого Петра…
Город фиксируется и в минуты своих катастрофических судорог — в том августе, который «поднялся над нами, как „огненный серафим“»:
На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.
И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.
Такими же четкими и сухими эстампами мелькают перед нами в строфах этой лирики «Павловск холмистый», Царское Село, Новгород, где «Марфа правила и правил Аракчеев», и, наконец, навеки освященный волшебным жезлом Пушкина —
Город чистых водометов
Золотой Бахчисарай…
Сложные облики чужих городов, причудливый очерк какой-нибудь «столицы иноземной», вычурные контуры пленительных иностранных памятников дополняют эти зодческие громады, поднимающие свои шпили и башни над кристаллами каналов и рек. Венеция, где —
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столпе, —
полные сложных ассоциаций упоминания Булонского леса, флорентийских садов, Лондона или Ниццы, все это выступает в ускользающих строках лирики Ахматовой каким-то мгновенным обликом, чтоб отчетливо прочертить изрезанный профиль соборов и бронзовых коней над человеческой группой двух влюбленных или разлюбивших.
Примечательно это пристрастие Анны Ахматовой к архитектурным массам, к той рукотворной красоте мира, в которой с неумолимой категоричностью сказалась самая глубинная сущность прекрасного. Это то ощущение, о котором говорит другой поэт-акмеист, Осип Мандельштам:
Красота не прихоть полубога,
Но хищный глазомер простого столяра.
Отсюда в стихах Анны Ахматовой это обилие куполов, башен, сводов, арок. Из ее элегий мгновенно и монументально выступают высокие своды костела, дворцы, Петропавловская крепость, арка на Галерной, белые своды Смольного собора, «Исаакий в облачении из литого серебра». Даже природа, с ее вечными сменами, воспринимается в аспекте искусного зодчего: