Царица печали - [42]
За прошедший десяток с лишним лет привыкания ко всем формам уличного попрошайничества я успел поостыть, рефлекс хватания себя за карман при виде каждой кормящей грудью отошел в небытие, и даже возникла мысль, что еще совсем немного — и произойдет что-нибудь такое, что попрошайничеству придется облачиться в другие одежды, прикрыться другим плащом: кому-то надо будет особенно постараться, чтобы по-новому пронять прохожего своей нищетой, или же иметь на продажу нечто большее, чем отсутствие слуха под аккомпанемент избытка настырности.
И вот как-то раз в месте, совершенно нетипичном для сбора милостыни, то есть не перед банком, не на главной городской улице, а в тихом уголке парка Иордана[4], где я выбрал скамейку, идеально удаленную от лязга трамваев и крика детворы, идущей всем классом на экскурсию, и именно в тот момент, когда я устроился на ней с газетой и вчитался в заголовок на последней странице, кроющий каламбуром позорное поражение польских футболистов, ко мне подсел ОН.
Ладно, подсел и подсел, да как-то очень уж близко; я напрягся, а сам боковым зрением вижу, что близость эта с его стороны преднамеренная и что в руках у него какой-то исписанный листок. «Этого еще не хватало», — подумал я, заметив, что рука его уже тянется ко мне в просительном жесте. Да есть у меня чтиво кроме ваших бумажек; отодвигаюсь подальше, чтобы просто так не встать и не уйти, а то получится, что я вроде как убегаю, что какой-то нищий с насиженной мною лавки, которую я, кстати, только что обмахнул от пыли платочком. Но и на новом месте все мое внимание сконцентрировалось в уголке глаза, я машинально, который уже раз, пробегаю все тот же самый абзац и знаю, что пока он не уйдет, спокойствия я не обрету. А краем глаза по-прежнему вижу, ибо во внимании, бесповоротно у меня отобранном, я признаваться не хочу, а потому вроде как не обращаю на него внимания и краем, стало быть, глаза вижу, что листок направляется в мою сторону, ко мне приближается, бесцеремонно на мою газету ложится и, подсунутый мне под нос, становится хозяином положения. И тогда я вскидываю брови: левую — возмущенно, типа «да пошел ты», правую — изумленно, типа «ни фига себе», — и читаю:
«Помогите мне. Я голоден и наг. Я не умею врать. Я не умею красть».
Здесь я уж не мог отвернуться, промолчать, притвориться, что меня нет, потому что текст тот был вовсе не попрошайнический, была в нем неожиданная в данной ситуации изрядная доза, если можно так выразиться, достоинства; смотрю я на него, смотрю и, медленно обводя его взглядом, все ищу ту точку, за которую можно было бы зацепиться, на которой я мог бы построить свою непримиримую позицию, от которой я смог бы оттолкнуться и уйти решительным шагом человека, обществу полезного, тем не менее я не шелохнулся, потому что все в нем было таким первозданным, таким чистым, как будто Господь Бог только что сотворил его, ибо воистину он был обнажен, духовно и телесно, я даже вздрогнул (ибо прежде я никогда, никогда — да и откуда?., у нас в семье таких мыслей никто, мужчина на мужчину по-женски смотреть никогда, даже во сне, не мог) и сказал себе басом внутренним, рассудительным, классическим, тем, что мутации никогда не подвергался: «Псих или педик какой приставучий, может, даже совратить меня пытается, в любом случае кошмар, брр, ни минуты дольше», а с ним заговорил командирским тоном, вспоминая те времена, когда отец с помощью арапников раскатистого «р» загонял мою молодость в угол:
— А что ты, дружок, из себя представляешь, к чему пригоден?
И я уже собрался было свернуть газету и добить его последним аргументом («Подумай лучше, браток, умеешь ли ты вообще хоть что-нибудь»), да и злотый наверняка бросил бы ему — такая во мне взыграла охота выказать презрение, но он остановил меня, схватил меня за руку (меня! за руку! по какому праву?! выдернуть!):
— Это что еще за дела…
(Ах, какой у меня голос, какой чистый, сильный, грудной, льющийся из недр души голос праведника, ох, довольно, довольно.)
— Э-э-э, только без рук! Ты, парнишка, можешь меня не трогать?
(Ах незадача, забыл пророкотать «р», а ведь нет ничего хуже такого неприструненного парнишки; ох какая хватка, как он смеет ограничивать мою свободу! И держится как-то так… Ну же, отпускай мою руку, сопляк, не собираюсь я тут с тобою тягаться силой.)
— Ну же, черт бы тебя побрал, отпускай скорей!
А сам стою, фактически отступив; сопляк (впрочем, не так чтобы в полном смысле сопляк, это его очочки ввели меня в заблуждение) сильнее меня оказался, ну и схватил меня, паразит, за руку; я подергался, попробовал вырваться, смыться («Таких, как ты, смывают, сливают, спускают», — говорил отец, мой великий отец, когда еще жил и руководил фирмой, обещал, что, как только я достигну веса семьдесят кило, он передаст ее мне, но я весил тогда шестнадцать и через несколько лет правильного развития мог бы достичь двадцати пяти кило, а за взятие этого веса меня обещали взять в полет на реактивном лайнере — «Сынок, ты должен быть большим и сильным, иначе тебя смоют, сольют, спустят, помни, слабых людей смывают, потом ходят такие спущенные да слитые по дворам и побираются, помни, сынок», — вот я и ел, набирался сил, а отец усыхал, а когда я уже достиг нужного для полета веса, оказалось, что он не помнит обещания — «Что ты там городишь, не болтай глупости, ты ведь не ребенок», — и этого обмана я не мог простить ему, перестал есть, так и осталось за мной пятнадцать кило недовесу и эта моя вечная слабость), и, если бы не проклятая слабость, меня наверняка было бы нелегко схватить за руку, не обездвижили бы меня таким идиотским образом, мощной, решительной хваткой, не терпящей возражений хваткой, без малейшего намека на любезность, прямо-таки бессовестной (вот именно, точное слово).
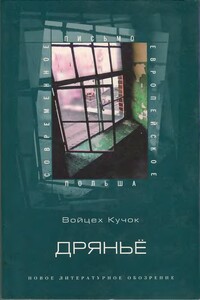
Войцех Кучок — поэт, прозаик, кинокритик, талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Нике»» (2004), полученной за роман «Дряньё» («Gnoj»).В центре произведения, названного «антибиографией» и соединившего черты мини-саги и психологического романа, — история мальчика, избиваемого и унижаемого отцом. Это роман о ненависти, насилии и любви в польской семье. Автор пытается выявить истоки бытового зла и оценить его страшное воздействие на сознание человека.

Войцех Кучок — польский писатель, сценарист, кинокритик, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Ника» (2004). За пронзительную откровенность, эмоциональность и чувственность произведения писателя нередко сравнивают с книгами его соотечественника, знаменитого Януша Вишневского. Герои последнего романа Кучока — доктор, писатель, актриса — поначалу живут словно во сне, живут и не живут, приучая себя обходиться без радости, без любви. Но для каждого из них настает момент пробуждения, момент долгожданного освобождения всех чувств, желаний и творческих сил — именно на этом этапе судьбы героев неожиданно пересекаются.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
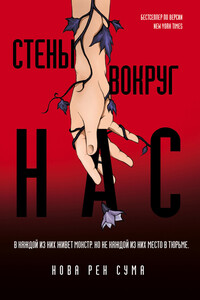
Тюрьма на севере штата Нью-Йорк – место, оказаться в котором не пожелаешь даже злейшему врагу. Жесткая дисциплина, разлука с близкими, постоянные унижения – лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться юным заключенным. Ори Сперлинг, четырнадцатилетняя балерина, осужденная за преступление, которое не совершала, знает об этом не понаслышке. Но кому есть дело до ее жизни? Судьба обитателей «Авроры-Хиллз» незавидна. Но однажды все меняется: мистическим образом каждый август в тюрьме повторяется одна и та же картина – в камерах открываются замки, девочки получают свободу, а дальше… А дальше случается то, что еще долго будет мучить души людей, ставших свидетелями тех событий.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

