Canto - [12]
И боль запоздала, и смех; слишком поздно.
Когда он идет по улицам, они подсовывают ему тысячу всяких вещей. Они лезут из щелей в каменных стенах. А он взамен сует в эти щели свой смех и свои слезы. Ведь он носит их с собой, запихнув глубоко в грудь, там, в особом отделении, они и хранятся: смех, в любой момент готовый раскатиться вовсю, и боль, готовая излиться — в двух разных емкостях: как перец и соль — «Сдобрите, пожалуйста, перчиком мои пустынные коридоры». И он обильно посыпает скатерти и столы, вносит свою непрошеную лепту. Когда он выходит на порог, резвые скакуны уже наготове. Он знает: непозволительно вскакивать сейчас в седло. И все же один из скакунов отзывается на имя Соль-с-Перцем.
Он любит ситуации, когда все просто. Как в подземном переходе через улицу, где люди чинно, колоннами идут все в одну сторону. Любит рубчатый пол этих подземных коридоров, задор и какую-то внутреннюю чистоту этих катакомб, которая бесконечно повторяет в сиянии витрин себя самое, отражая, как уже говорилось, чинно идущие, легко обозримые отряды людей перед тем, как они вновь выйдут наверх, к свету. Хорошо и то, что этот переход можно перекрыть. После полуночи опускается решетка, и рабочие моют полы в переходах.
Еще он любит вот что: крутить диск телефонного аппарата. Глядя на неприступную каменную кладку, крутить диск: набирать, выбирать.
Да, я был в городе, и эти зрительные площадки, эти площади захватывали меня. Они опускались, хлопая крыльями, овевая меня, обрызгивали меня своими эссенциями, наполняли меня своими тенями, изливали на меня бормотание, смех, отзвуки — и тишину тоже, они набрасывали на меня свои лассо, обвивались вокруг меня и вели меня, связанного, увлекая все дальше, в новые ловушки. Вводили меня в свою дневную жизнь, потом в ночную, в укромные уголки, уголки своего смирения. Как они опьяняли. Поили вином безумия, впрыскивали наркотик. Они наполняли меня, заполняли всю голову целиком. И вот я шел по ним, и не мог, не мог больше этого вынести, потому что все это не умещалось у меня в голове. Шел, полнясь этим, но пустой. И пустым уходил. Там, в самой гуще, и все равно пустой, потому что не мог ничего понять. Я шел под дождем, среди потопа, томясь жаждой по одной-единствен-ной капле.
Так что когда я побежал к своему руководителю, к ментору, мимо палаццо Фарнезе, промчался под резными пролетами Виа-Джулия и там, дальше, где близки уже крутые лестницы, ведущие вниз, к Тибру, проскользнул через калитку в воротах (во дворе, на пороге у двери — белая кошка, пришлось переступить через нее), взлетел вверх по лестнице, минуя медную табличку с надписью «LUNA» на четвертом этаже, и вот сам ментор возникает в дверях, глаза у него блестят — ведь его внезапно оторвали от работы, в которую он был погружен с головой, он имеет право презирать настоящее, ибо сам его творит, но свое, иное, а я, такой свежий оттого, что ничего еще не начал, я, жертва и одержимый, обреченный на этот город, стою перед ним, и я совсем пуст.
Есть такие площади, просто площади, просто места действия, площади, на которых день и ночь — сутки прочь, маленькие островки жизни, дарующие тебе минуты осознания. Ты стоишь на такой вот площади по имени Пьяцца-дель-Пополо или Пьяцца-Навона, а может быть, она и поменьше, совсем величиной с пятачок, и тут вдруг прорывается пламя осознания, ярко освещая всю жизнь, именно тут, на этой площади, на этом пятачке, жизнь площади и твою жизнь на ней, и вот уже обе жизни прикованы друг к дружке, как два узника осознания, скованы одной цепью, и один отвечает за другого. Это такие вот площади-минутки, где ты внезапно оживаешь, и на минуту озаряешься светом, и ртутный столбик радости жизни резко ползет вверх. А потом крышечка старинных часов захлопывается, хлоп — и всё, и темно. И, может статься, ты опять окажешься на таком пятачке жизни-на-минутку, где-нибудь на окраине, и он опять заставит тебя взмыть высоко вверх, а потом все кончится. Но ни туда, ни оттуда не ведут ни тропинки, ни пути смысла. Крохотные булыжники мостовой жизни, пятачки-островки в черной тьме, у которой нет цвета, потому что она — без дна, бездна. И ведь как хочется разыграть из себя властелина жизни, твердо стоя на своей земле, на своем дне. Ничего не поделаешь: тысяча прыжков на тысяче площадей, когда ты пробуждаешься, а потом угасаешь. Крышечка хлоп — и закрылась. Увеличительное стекло осознания, раз — и показалось, раз — и захлопнулось. И каждое пробуждение к жизни — вещь в себе. И всякое следующее — вновь на одиноком, оторванном ото всего островке в океане кромешной черной тьмы. И к каждому островку жизни ты готовишься, собираясь с духом.
Grottaferrata где-то в дальней дали, и досягаема только на карте, если ты ткнешь в нее указательным пальцем.
Припоминаю, что у меня в кармане хранилось замечательное рекомендательное письмо с прекрасной концовкой: «и просим Вас предоставить нашему сотруднику всевозможные послабления ввиду необходимости способствования расцвету его вышеупомянутых качеств, каковые послабления смогут принести ему неоценимую пользу в деле осуществления им своей деятельности, а также украсить его времяпрепровождение в течение всего периода пребывания в Риме. Подпись такого-то…»

«Мех форели» — последний роман известною швейцарского писателя Пауля Низона. Его герой Штольп — бездельник и чудак — только что унаследовал квартиру в Париже, но, вместо того, чтобы радоваться своей удаче, то и дело убегает на улицу, где общается с самыми разными людьми. Мало-помалу он совершенно теряет почву под ногами и проваливается в безумие, чтобы, наконец, исчезнуть в воздухе.
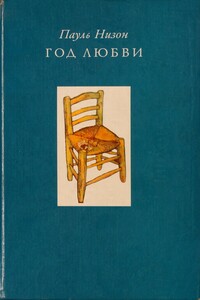
Роман «Год любви» швейцарского писателя Пауля Низона (р. 1929) во многом автобиографичен. Замечательный стилист, он мастерски передает болезненное ощущение «тесноты», ограниченности пространства Швейцарии, что, с одной стороны, рождает стремление к бегству, а с другой — создает обостренное чувство долга. В сборник также включены роман «Штольц», повесть «Погружение» и книга рассказов «В брюхе кита».
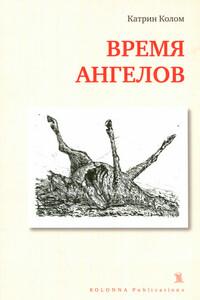
В романе "Время ангелов" (1962) не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг палочки в ангельских руках. Благоухает трава, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких планет.

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.