«Быть может за хребтом Кавказа» - [36]
Получая чины и должности в конце 1820-х, Грибоедов, повторяем, в высшей степени традиционен: недаром в момент триумфа вспоминал времена Екатерины, Суворова, Державина! Начиная с Петра Великого, просвещение (важная часть которого — «изящная словесность») было государственной политикой, и поэтому более удивительным представлялся поэт без службы, нежели в чине и должности. Можно составить «табель о рангах» российской литературы, расположив крупных мастеров, разумеется, не по их литературному дарованию, а просто по чинам, — то, о чем Пушкин (вернее, Иван Петрович Белкин) писал в «Станционном смотрителе»:
«В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?»
Выше всех — действительный тайный советник, министр Гаврила Романович Державин; тот же класс и министерскую должность имел Иван Иванович Дмитриев; Василий Андреевич Жуковский, обучавший наследника, вышел в отставку тайным советником, этот чин соответствовал военному званию генерал-лейтенанта, которое Денис Давыдов получил примерно в то время, когда «возвысился» Грибоедов. Спустившись чуть ниже, видим действительного статского советника (т. е. генерала) Карамзина, статского советника, вице-губернатора Салтыкова-Щедрина… Российская практика показала, что можно было служить по дипломатической части в середине XVIII в. (А. Кантемир — посол в Лондоне и Париже), занимать крупную должность на таможне (Радищев), являться государственным историографом и притом, по словам Пушкина, совершать «подвиг честного человека».
Разумеется, мы далеки от того, чтобы представить некую идиллию; крупные мастера вступали в разнообразные конфликты с властью даже тогда, когда в общем были с нею заодно: Державин, немало льстивший Екатерине II, одновременно имел репутацию грубого, неуживчивого человека, Карамзин говорил царям такое, на что и декабристы не решались; друзья считали Жуковского «представителем грамотности при дворе безграмотном». Среди друзей был, между прочим, Петр Андреевич Вяземский — и при Александре I, и долгое время при Николае I он числит себя в оппозиции, но… получает чины, становится камергером и не видит в том никакого «нравственного подвига», «эксперимента». Узнав, что Грибоедов в 1828 г. едет в Тегеран, Вяземский, «декабрист без декабря», пишет, что «не прочь ехать бы и с ним, но теперь мне и проситься нельзя» [Гр. Восп., с. 91].
Число подобных примеров можно сильно увеличить. Они подтверждают, что, продвигаясь по службе, Грибоедов вел себя как почти все русские литераторы в течение предшествовавшего столетия.
XVIII век и начало XIX-го почти не знали людей «лишних» — мыслящее меньшинство (выражаясь позднейшим языком — интеллигенция) находило, что можно и должно одновременно служить самому себе, отечеству и государству. Исключения лишь подтверждали правило: Радищев, попав со своей довольно значительной должности в крепость и ссылку, в конце жизни ведь снова пытался осуществить свои идеалы на государственной службе. Это худо кончилось, но попытка была… Даже декабристы в течение многих лет соединяли подпольную деятельность с легальной, находя благодетельную карьеру полезной, оздоровляющей. Казнь пятерых, ссылка сотен заговорщиков создавали новую моральную ситуацию, при которой служить становится неудобно. Но притом далеко не сразу «лучшими людьми» была найдена альтернатива — действовала инерция, традиция нескольких поколений, убеждение, что лучше всего можно послужить отечеству именно службою.
С декабристов начинается перелом эпохи. Начинается, но не кончается…
О Грибоедове Пушкин заметит: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям…» Подробнее пушкинский отзыв будет разобран позже, пока же задумаемся, о каком честолюбии толкует автор «Путешествия в Арзрум» — литературном, служебном? Судя по тексту, они неразделимы. Дарование автора «Горя от ума» огромно, — значит, и честолюбие тоже. Известный советский литературовед писал, что «по всему складу своего волевого характера, по общественному темпераменту Грибоедов не мог уйти в „свой мир“, оставаться в стороне от жизни, от живого дела. Им владела необоримая жажда реальной, практической деятельности» [Орлов, с. 165].
Но можно ли сотворить в государственной, политической сфере нечто сопоставимое по размаху, значению с великой комедией? Явиться пророком, Авраамом, Магометом, перевернуть мир?..
Комедия и дела государственные соединены Пушкиным, конечно, не случайно: для Грибоедова они переплетаются и в начале 1820-х, когда он наблюдает Ермолова, Кавказ; и в 1827-м — в Джелал-оглу; и в 1828-м — в Туркманчае.
Потомки, крепкие «задним умом», постоянно удивляются деятелям, которые считали себя полновластными, всемогущими и не знали (а мы знаем), что вскоре их отставят или убьют. Все планы были невозможны, а им казалось, что возможны…
Уже Огарев несколько лет спустя мерил Грибоедова своей логикой, а не грибоедовской (пожалуй, здесь можно отыскать начало «тыняновского взгляда»): «Грибоедов… высказал в „Горе от ума“ все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести» [Огарев, т. II, с. 479].
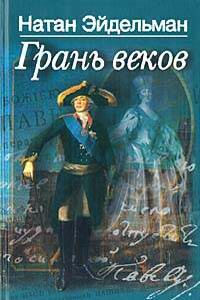
В книге рассказывается об одном из самых интересных периодов российской истории. Завершается правление Екатерины II, приходит время Павла I. Начало и конец его недолгого царствования – непрекращающаяся борьба за трон, результатом которой стало убийство императора.
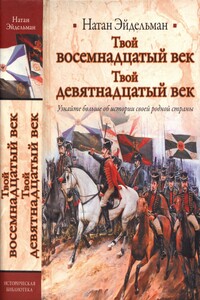
Эта книга увлекает необыкновенно! Здесь читатель узнает о самых грандиозных событиях этих веков: о Пугачевском бунте, об Отечественной войне 1812 года и о судьбах многих людей того времени.

На первой странице обложки: рисунок АНДРЕЯ СОКОЛОВА «СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО».На второй странице обложки: рисунок Ю. МАКАРОВА к рассказу В. СМИРНОВА «СЕТИ НА ЛОВЦА».На третьей странице обложки: фото ЗИГФРИДА ТИНЕЛЯ (ГДР) «ПАРУСНЫЕ УЧЕНИЯ».
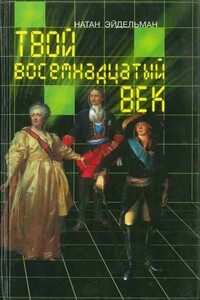
Эта книга — первая в серии, написанной Н. Я. Эйдельманом специально для юношества. Повествование об «осьмнадцатом столетии» построено на анализе интереснейших событий (постоянная борьба за трон, освоение Камчатки и Курил, Пугачевский бунт) и ярких портретах героев, участников исторического процесса — Елизаветы и Екатерины II, Павла I, А. Радищева, князя М. Щербатова… Особое внимание автор уделяет закулисной стороне истории — тайнам дворцовых переворотов. Победители известны всем, а судьбы жертв — далеко не каждому…
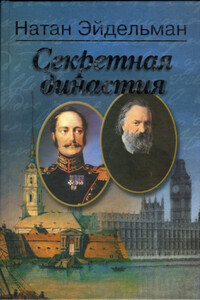
Книга посвящена секретной истории России от начала XVIII века до 1870-х годов и тому, как «Вольная печать» А. Герцена и Н. Огарева смогла обнародовать множество фактов, пребывающих в тени и забвении или под спудом цензурных установлений. Речь пойдет о тайнах монаршего двора («убиение» царевича Алексея, дворцовые перевороты, загадочная смерть Николая I), о Пугачеве, Радищеве и опальном князе Щербатове, о декабристах и петрашевцах...
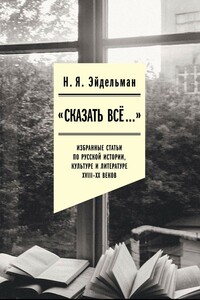
Натан Яковлевич Эйдельман (1930–1989) — ведущий исследователь отечественной истории и культуры, любимый многими поколениями читателей за неоценимый вклад в изучение и популяризацию истории XVIII–XIX веков. В эту книгу вошли работы автора, посвященные как эволюции взглядов его главных героев — Пушкина, Карамзина, Герцена, так и формированию мировоззрений их антагонистов. Одним из самых увлекательных повествований в книге оказывается история ренегата — «либерала-крикуна» Леонтия Дубельта, вначале близкого к декабристам, а затем ставшего одним из самых ревностных охранителей николаевского режима. Книга завершается пророческим анализом истории российских реформ, начиная с эпохи Петра I и заканчивая перестройкой.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.