Будетлянин науки - [4]
За советы и помощь в составлении комментариев хочу также поблагодарить В. М. Вольперта, Вяч. Вс. Иванова, В. В. Катаняна и И. Ю. Генс, М. Ю. и Ю. М. Лотманов, М. А. Немирову, Т. Л. Никольскую, А. Е. Парниса, Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака, Р. Д. Тименчика, Л. С. Флейшмана, Н. Ф. Фридлянд-Крамову, М. И. Шапира, Е. С. Янгфельдт-Якубович, Ben Hellman, Rein Kruus, Elena и Bengt Samuelson, Miloslava Slavickovd, ErikFait, Jan Benedict и проф. Peter Alberg Jensen, который любезно согласился включить сборник в серию Stockholm Studies in Russian Literature.
Бенгт Янгфельд
Будетлянин науки>*
I
Учебные годы двенадцатый-тринадцатый и тринадцатый-четырнадцатый (о тех временах я привык мыслить именно в рамках учебных годов) были годами литературного и научного созревания.
В те годы казалось совершенно несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке – вернее, в науках – эпоху катаклизмов. Тогда я заслушивался лекциями молодого физика, вернувшегося из Германии и рассказывавшего про первую работу Эйнштейна по теории относительности – это было ещё до общей теории относительности – а с другой стороны чередовались впечатления от французских художников и восходящей русской живописи, полубеспредметной, а затем уже совсем беспредметной.
После французского пролога, который для меня носит в первую голову имя Малларме – хотя я тогда же освоился и с Рембо, и с некоторыми другими, более поздними поэтами, пришли, наконец, откровения новейшей русской поэзии, начиная с «Пощёчины общественному вкусу», – это были незабываемые переживания. И ясно рисовался единый фронт науки, искусства, литературы, жизни, богатый новыми, ещё неизведанными ценностями будущего. Казалось, творится новозаконная наука, наука как таковая, открывающая бездонные перспективы и вводящая в обиход новые понятия – понятия, о которых тогда говорилось, что они не укладываются в привычные рамки здравого смысла. Так нас учили и Умов, и Хвольсон, атомные физики, которых я слушал и читал>1. То же оказалось во всех других областях. Открывалась неведомая, головокружительная тематика времени и пространства. Для нас не было границы между Хлебниковым-поэтом и Хлебниковым-математическим мистиком. К слову сказать, когда я пришёл к Хлебникову – обновителю поэтического слова, он мне тут же начал рассказывать о своих математических разысканиях и раздумьях.
Эти же годы, незадолго до первой мировой войны, принесли увлечение всякими лекционными и дискуссионными вечерами. Ряд таких дискуссий был связан с т. н. кризисом театра, с проблемами театрального новаторства: горячо обсуждались опыты Крэга и Вахтангова, Таирова, Евреинова, Мейерхольда. Каждая постановка, и московская, и петербургская, вызывала волнение и споры. Были, конечно, также лекции и дискуссии на литературные, философские и социолого-публицистические темы.
Вечера футуристов собирали невероятное количество публики – Большой зал Политехнического музея был весь набит! Отношения были таковы: многие приходили ради скандала, но широкая студенческая публика ждала нового искусства, хотела нового слова – причём – и это интересно – прозой мало интересовались. Это было время, когда читатели тяготели почти исключительно к поэзии. Если бы тогда кого угодно из нашей широкой среды спросить, что происходит в русской литературе, – в ответ последовала бы ссылка на символистов, особенно на Блока и Белого, отчасти, быть может, Анненского, или же на тех поэтов, кто пришёл после символистов, но едва ли кто бы тогда вспомнил о Горьком; его творчество казалось завершённым до пятого года. Позднюю прозу Сологуба очень не любили, и единственное, что из его прозы признавали – это тоже была третьегодняшняя литература – «Мелкий бес» и мелкие рассказы. Читали Ремизова, но как-то между прочим, а в общем считалось, что главное – это стихи и что поэзии дано сказать доподлинно новое слово.
Кроме таких больших публичных вечеров было много замкнутых групп, кружков и частных собраний, где новому слову причиталось главное место.
Маяковского я видел в первый раз в одиннадцатом году. Как ни странно, эти ранние случайные съёмки памяти часто совпадают с памятными датами его биографии.
Лично я в то время был куда более связан с кругами художников, чем с кругами писателей и поэтов. И у меня было два друга. Один из них был моим сотоварищем по Лазаревскому институту – Исаак Кан>2, очень рано начавший искания новых форм в живописи. Эпоха абстрактного искусства ещё только мерещилась – но уже решались проблемы освобождённого света и освобождённых объёмов. Обольщали французы. Уже склонялись имена Матисса и Сезанна. Хотя полотна Пикассо уже красовались в Щукинском особняке, мы туда не были вхожи и узнали о Пикассо чуть-чуть позднее. Но были другие. В Третьяковской галерее висело несколько очень больших художников, новых, французских – то есть новых для того времени – художников-постимпрессионистов. И мы переходили от увлечения импрессионистами именно к этому постимпрессионизму, который, собственно, уже нёс в себе отрицание импрессионизма. Мы увлекались Сезанном и Ван Гогом, а также – но меньше, чем Ван Гогом – мы увлекались Гогеном и рядом иных новаторов.

Маргарет Тэтчер смело можно назвать одной из самых сильных женщин ХХ века. Несмотря на все препятствия и сложности, она продержалась на посту премьер-министра Великобритании одиннадцать лет. Спустя годы не утихают споры о влиянии ее политических решений на окружающий мир. На страницах книги представлены факты, белые пятна биографии, анализ и критика ее политики, оценки современников и потомков — полная документальная разведка о жизни и политической деятельности железной леди Маргарет Тэтчер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
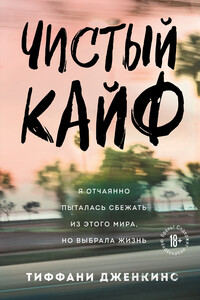
«Мне некого было винить, кроме себя самой. Я воровала, лгала, нарушала закон, гналась за кайфом, употребляла наркотики и гробила свою жизнь. Это я была виновата в том, что все мосты сожжены и мне не к кому обратиться. Я ненавидела себя и то, чем стала, – но не могла остановиться. Не знала, как». Можно ли избавиться от наркотической зависимости? Тиффани Дженкинс утверждает, что да! Десять лет ее жизнь шла под откос, и все, о чем она могла думать, – это то, где достать очередную дозу таблеток. Ради этого она обманывала своего парня-полицейского и заключала аморальные сделки с наркоторговцами.
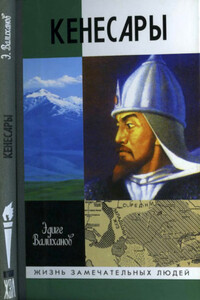
Книга посвящена выдающемуся политическому, государственному и военному деятелю Казахстана — Кенесары Касымову. Восстание, поднятое Кенесары, охватило почти весь Казахстан и длилось десять лет — с 1837 по 1847 год. Идеологические догмы прошлого наложили запрет на историческую правду об этом восстании и его вожде. Однако сегодня с полным основанием можно сказать, что идеи, талант и бесстрашие Кенесары Касымова снискали огромное уважение казахского народа и остались в его исторической памяти как одна из лучших страниц национально-освободительной борьбы казахов в XIX веке.

С самого первого сезона, с января 1990 года, каждая серия «Симпсонов» начинается с шутки, которую не замечают десятки миллионов зрителей за сотни миллионов просмотров. Когда название сериала выплывает из-за облаков, сначала вы видите только первую половину фамилии, «The Simps»; вторая показывается чуть позже. Все еще не понимаете? В английском языке «Simps» означает простаки, туповатые граждане, – как те, которых вы увидите в сериале. Но не расстраивайтесь – это не последняя шутка, которую вы не заметили в «Симпсонах».
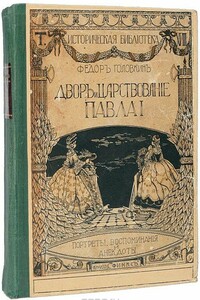
Граф Ф. Г. Головкин происходил из знатного рода Головкиных, возвышение которого было связано с Петром I. Благодаря знатному происхождению граф Федор оказался вблизи российского трона, при дворе европейских монархов. На страницах воспоминаний Головкина, написанных на основе дневниковых записей, встает панорама Европы и России рубежа XVII–XIX веков, персонифицированная знаковыми фигурами того времени. Настоящая публикация отличается от первых изданий, поскольку к основному тексту приобщены те фрагменты мемуаров, которые не вошли в предыдущие.