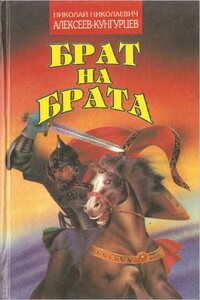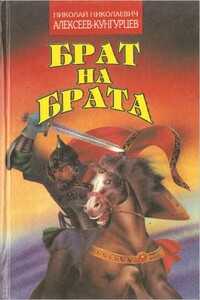Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск - [220]
— А гривну ты получишь, будь спокоен! — продолжал он, очнувшись от своей задумчивости. — Теперь не забуду! Так помни: жду тебя к себе на свадьбу! — прибавил он, кивнув головой Даниле Андреевичу на прощанье и удаляясь.
Толпой окружили придворные князя, наперерыв поздравляя с царскою милостью. Какими добрыми и любезными сделались теперь все те, которые еще недавно избегали перекинуться с ним словом! Один звал князя к себе отобедать, другой — приглашал на крестины, третий на свадьбу, и так без конца. Князю было неприятно оставаться в толпе этих лицемеров, он поспешно ушел из дворца и поскорее отправил гонца к своей жене, чтобы порадовать ее доброю вестью. Сам же остался в Слободе ожидать царской свадьбы и обещанной царем гривны.
Свадьба царя состоялась 28-го октября 1571 года. Кто бы узнал в бледной, едва держащейся на ногах от слабости царской невесте, еще недавно такую свежую, сильную Марфу Васильевну… Она едва могла достоять до конца венчания…, ноги ее подкашивались. Данило Андреевич с грустью смотрел на Марфу Васильевну.
«Господи, Боже мой! Как она переменилась! С тоски, верно! Ох, болезная, болезная! Не жилица она на белом свете, кажись!» — думал Данило Андреевич. И он, к сожалению, угадал.
Недолго пришлось Марфе Васильевне быть русской царицей — всего около двух недель: тринадцатого ноября Марфа Васильевна скончалась.
Отец и родственники несчастной царицы приобрели себе через ее замужество богатство и почести, а сама она… гроб в монастыре Вознесенском, рядом с двумя первыми женами царя Иоанна.
Вскоре после кончины молодой царицы Данило Андреевич уехал в вотчину, надеясь, что теперь уже ничто не помешает ему наслаждаться тихою и спокойною жизнью.
Действительно, в этот раз ему удалось провести в вотчине безвыездно зиму и часть следующего года, пока не прошел слух, что крымцы опять идут на Русь.
Долг призывал князя к защите родины, и он немедля поспешил под знамена…
В это же время и мурза Алей-Бахмет снова явился с ханом на свою прежнюю родину, но уже не для того, чтобы добыть себе славу, а лишь для того, чтобы сложить свою буйную головушку на земле родимой.
Только этого теперь жаждал отступник!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I. ТОСКА ОТСТУПНИКА
Как уже было сказано, Давлет-Гирей в тот же день, в который подступил к Москве и сжег ее, поспешил в обратный путь, устрашенный вестью, будто бы из Ливонии идет на помощь стольному городу русская рать под предводительством Магнуса.
Хан не бежал из-под Москвы — он уходил гордый и спокойный: он сломил надменность Иоанна, сжёг Москву, чего же еще надо? Правда, его воинам не пришлось попользоваться богатой добычей, которую они ожидали найти в Москве — этого не позволил сделать огонь, но что же? Они найдут ее на юге Руси: там добычи непочатый угол!
Так думал Давлет-Гирей и радостным взглядом оглядывал свое войско, из которого, шутка сказать, не потерял почти что ни одного человека.
Весел, доволен хан, но далеко не так довольны его мурзы. Своими руками спалили добычу… Да какую! Разве найдешь где-нибудь, кроме Москвы, столько золота и серебра, как в ней, столько тканей неоценимых и диковин всякого рода? Нет! Уж где! И думать нечего! Хан обещает добычу… Будет она, будет, конечно, да какая?
Рабы-христиане, прекрасные жены урусов, табуны коней и другого скота — что все это в сравнении со спаленным в Москве богатством!
И сердито хмурят свои брови корыстные мурзы. Мрачны они, но всех, кажись, мрачнее ханский любимец, красавец мурза Алей-Бахмет.
Глядит он мрачнее тучи черной, поводья коня бросил, сложил на груди руки могучие и двинул угрюмо свои тонкие брови: невеселые, видно, думушки бродят в его голове.
Дивятся, глядя на него, мурзы; не меньше их дивится и хан, видя мрачное состояние духа своего любимца.
«Что с ним? Обидел я его чем? Кажись, нет! Аль боится, что награды от меня не получит? Его не наградить, так, кого же награждать?» — думает Давлет-Гирей.
А Алей-Бахмет ничего не замечает, и ни хан, ни мудрые мурзы не догадаются, что за смута творится в душе Алеевой.
Словно темная осенняя ночь, тяжелая, беспросветная, охватила душу. И ищет он хоть звездочки малой, чтоб хоть на миг лучом своим мерцающим озарила она эту тьму непроглядную, да нет! Не найти ему этой звездочки, потому что давно закатилась она!
Много думушек бродит в голове Алеевой, а пуще всего одна перебивает — тяжкая, скорбная дума о том, что не видать ему более во веки вечные Марьи Васильевны.
И раньше немало приходилось ему тосковать да кручиниться, а не так. Или надежда тогда еще не совсем исчезла, или привык он к разлуке, и черные очи Зюлейки заставили его позабыть лазурные очи прежней зазнобушки. Теперь же все позабытое опять вспомнилось, и всплыло наверх то, что, казалось, давным-давно на самом дне его души погребено было.
И совесть к тому же… Ох, совесть, совесть! Лютый палач, куда лютее самого лютого из них. Тому-то мук таких не замыслить, и тот только тело пытает огнем да железом каленым, а до души не добирается! А ведь она, злодейка, всю душеньку воротит, все забытое на память приводит и сосет, сосет где-то там, глубоко внутри… Не спрячешься от нее ни за горами высокими, ни за лесами дремучими!
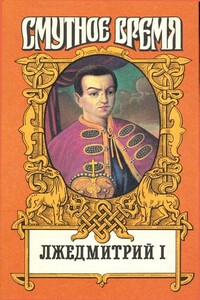
Романы Н. Алексеева «Лжецаревич» и В. Тумасова «Лихолетье» посвящены одному из поворотных этапов отечественной истории — Смутному времени. Центральной фигурой произведений является Лжедмитрий I, загадочная и трагическая личность XVII века.
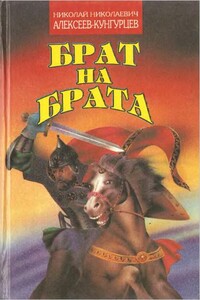
Сын опального боярина по несчастной случайности попал в Венецию и вырос вдали от дома. Но зов родины превозмог заморские соблазны, и Марк вернулся в Московию, чтоб быть свидетелем последних дней Иоанна Грозного, воцарения Феодора, смерти Димитрия…
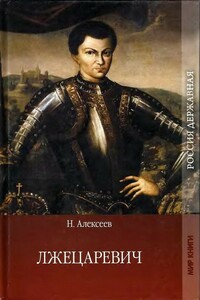
В романе «Лжецаревич» рассказывается об одном из самых трагических периодов русской истории — Смутном времени и о самой загадочной фигуре той эпохи — Лжедмитрии I.

Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) — писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник».

В том избранных произведений известного датского писателя, лауреата Нобелевской премии 1944 года Йоханнеса В.Йенсена (1873–1850) входит одно из лучших произведений писателя — исторический роман «Падение короля», в котором дана широкая картина жизни средневековой Дании, звучит протест против войны; автор пытается воплотить в романе мечту о сильном и народном характере. В издание включены также рассказы из сборника «Химмерландские истории» — картина нравов и быта датского крестьянства, отдельные мифы — особый философский жанр, созданный писателем. По единодушному мнению исследователей, роман «Падение короля» является одной из вершин национальной литературы Дании. Историческую основу романа «Падение короля» составляют события конца XV — первой половины XVI веков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.