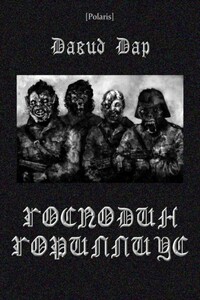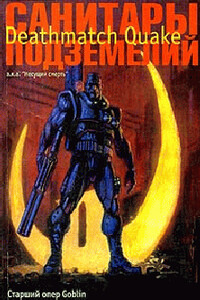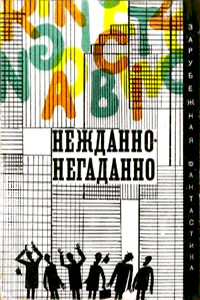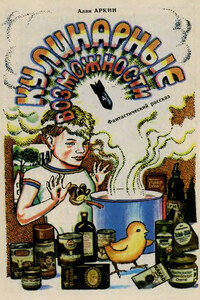А думал он о том, как глупо и несправедливо подозревать, будто он, Кузьма Кузьмич, – лодырь и не хочет работать! Да разве он не хочет работать? Он очень даже хочет работать! Разве ему не скучно весь день лежать одному? Конечно, скучно. Но не мог же он поступить на работу зимой, когда стояли такие холода! А потом у него на глазу был ячмень.
А потом эта несносная Варенька все мешала ему подумать о работе.
Так он размышлял, когда услышал тихие шаги Горя.
– Кто это там ходит? – спросил он.
– Это я. Горе, – ответило Горе.
– Горе? – воскликнул дядя. – А по какому поводу вы явились?
– Я пришло сюда потому, что маленькую Вареньку вчера увезли в больницу.
– Но это же отлично! – воскликнул дядя. – Вы просто не можете себе представить, что это было за несносное существо. Наказание это было, а но существо!.. Садитесь, пожалуйста. Извините, что я в подтяжках и у меня не прибрано, но, знаете, ко мне так редко приходят гости, что нет никакого стимула прибирать в комнате. – И, поджав под себя ноги, дядя потеснился, уступая Горю место на краешке дивана.
Горе село. Оно протянуло руку и обняло дядю, как вчера обнимало племянника.
– Если бы вы только знали, как Андрей ее любит. – сказало Горе. – Если бы вы только видели, как on глядел на нее, когда она лежала на кро вати, маленькая и беспомощная, словно подбитая птичка!..
Горе говорило так жалостливо, что дядя стал посапывать носом, потом всхлипнул, и по его небритым щекам потекли слезы. Через час он уже лежал, уткнувшись лицом в подушку, и горько рыдал.
Так он предавался горю до позднего вечера.
А поздним вечером захотел есть. Он вытер слезы и, все еще всхлипывая, сказал, что чувствует необычайную слабость и очень просит Горе порыться в шкафчике – там должно быть немножко водки; а потом сходить на кухню, включить газ и разогреть вчерашний суп.
Горе порылось в шкафчике, нашло водку, разогрело суп.
Дядя долго делил водку поровну, чтобы не обидеть ни себя, ни Горе.
– Ну, будем здоровы! – сказал он всхлипывая, и они чокнулись.
Ужин несколько утешил дядю. Он перестал всхлипывать, только иногда нервно вздрагивал.
– Знаете, Горе, – сказал он, – я так разволновался, что мне теперь до утра не заснуть. Может, сыграем в картишки?
И так как Андрей Хижина все еще не возвращался и Горю все равно делать было нечего, то оно согласилось сыграть в карты.
Играли в подкидного дурака. Горе играло спокойно, молча, глядя на партнера красивыми и грустными глазами. А дядя волновался, хлопал Горе по колонке и все беспокоился, чтобы Горе не жулило.
И Горе все время оставалось в дураках.
К полночи они так подружили – дядя и Горе, что, когда вернулся домой Андрей Хижина, дядя и слышать не хотел, чтобы Горе ушло к племяннику.
– Да ну его, – говорил он, – он, наверно, устал как черт и сразу завалится спать. А я могу не спать хоть всю ночь, у меня и днем найдется время выспаться. Ей-богу, оставайтесь у меня.
Но Горе взглянуло на него укоризненно, поднялось с дивана, отряхнуло коленки и ушло – строгое и грустное.
"Не понимаю, – думал дядя, – отчего люди жалуются на свое горе, когда даже с чужим горем можно неплохо провести время".
И он сладко захрапел, с присвистом и причмокиванием.
А Горе в это время уже обняло Андрея Хижину.
Оно не дало ему даже включить электричество. Оно не дало ему даже добрести до кровати. И опять он всю ночь просидел на стуле. Неподвижный и согнутый, будто на его плечах лежал потолок.
Но наступил рассвет, и Андрей Хижина встал со стула.
– Ты не сердись на меня, мое Горе, – сказал он, – но мне пора, я побегу.
И он отправился на работу, а Горе осталось дома.
Теперь уж оно не скучало. Оно сразу пошло в комнату дяди.
Весь день они провели вместе. А к вечеру так привязались друг к другу, что Горе уже само не захотело идти к Андрею Хижине, тем более что Варенька поправлялась.
И Горе осталось у дяди.
С тех пор так и живут они все вместе. В одной комнате живет Андрей Хижина с Варенькой. В другой – дядя с Горем.
Андрей Хижина и Варенъка учатся, работают и отдыхают. А дядя и Горе – едят, пьют да играют в подкидного дурака.
Никите Мудрейко еще не было девятнадцати лет, но все другие предпосылки, чтобы стать выдающимся философом, у него уже были.
Главная из этих предпосылок заключалась в том, что за девушками он не ухаживал, на коньках не катался, комнату за собой нс убирал, танцевать не умел, в кино и театр не ходил, а ходил только на лекции, читал лишь научные книги и размышлял исключительно о таких предметах, которые имеют значение для всего человечества. Например, о том, есть ли жизнь на других планетах, или – можно ли сделать кибернетического человека.
Размышляя о подобных вопросах, он нередко опаздывал на работу, знакомых принимал за незнакомых, а незнакомых принимал за знакомых.
Волосы у Никиты Мудрейко были всегда встрепаны, уши торчали, как раскрытые окна, а его длинная худая фигура отличалась одной весьма странной особенностью: что бы он ни надел на себя, все оказывалось ему не по росту – или слишком коротким, или слишком широким. Но он не обращал на это никакого внимания, и если мы спрашивали у него: "Но перешить ли тебе, Мудрейко, пиджак?" или "Не нора ли тебе, Мудрейко, в баню?", он смотрел на нас сквозь свои очки как на сумасшедших и отвечал: