Богема: великолепные изгои - [109]
Многомерное постмодернистское пространство с его временными группами неожиданным образом напоминает богему, если говорить о смешении искусства и жизни, самоопределения и культуры, бриколажа и авангарда, китча и бунта — или о бунтарском китче. Преисполненная странной эйфории меланхолия постмодернистов, одновременно воспевающих культуру потребления и оплакивающих угасание протеста, также схожа со скорбью тех, кто сокрушается о смерти богемы.
Богемный протест, выражавшийся в «шокирующей новизне», давно потерял способность шокировать. Возможно, именно поэтому мы не заметили или забыли, как, пока запретные сферы индивидуального опыта становились более приемлемыми, целые области политического изымались из обращения и переходили в ведомство цензуры, в лучшем случае отодвигаясь на периферию, в худшем — оказываясь в полном забвении. Кажется, что политический радикализм совершенно потерялся в эстетическом бунте, охватившем западное общество. Мы живем в барочную эпоху эстетического изобилия и политического удушья — или вакуума.
Это не означает, что исчезло желание изменить общество, как полагали некоторые. Не указывает это и на то, что молодежной культурой движет лишь стремление выделиться, интерес к пустому престижу и моде, лишенный политических мотивов[595]. Необязательно и восклицать с отчаянием, подобно Т. Дж. Кларку: «Если я больше не могу назвать пролетариат своим избранным народом, то по крайней мере капитализм останется для меня сатаной»[596]. Группы и отдельные люди на Западе (не говоря уже об остальном мире — но это другая история) пытаются протестовать и ищут эффективных способов добиться изменений. Густав Мецгер, например, по-прежнему верит, что искусство способно менять восприятие публики и ее взгляд на мир.
С началом нового тысячелетия возникли, по всей видимости, и новые формы протеста — можно вспомнить протесты против Всемирной торговой организации в Сиэтле в 1999 году. Несмотря на некоторую разобщенность и неубедительность, они все же свидетельствовали о появлении новой формы политической организации, поскольку устраивались по всему миру благодаря интернету и электронной почте.
В то же время протесты приняли весьма традиционный и весьма богемный (и явно анархистский) облик зрелищной демонстрации, в которой присутствовали элементы перформанса и театра. В этом плане миф о богеме нельзя назвать ни частью мертвого прошлого, ни отсылкой к будущей утопии. Богемный порыв найдет новые проявления и новые формы, ведь речь, к конце концов, не о том, что постмодернисты называют концом истории, в котором ничто не воспринимается как чуждое и не исключается. Скорее, как полагает Терри Иглтон, мы имеем дело с переходным периодом, таким, когда еще не можем разглядеть источников грядущей истории. Хотя будущих диссидентов, скорее всего, не будут назвать богемой, маловероятно, что когда-либо исчезнет стремление к другой, более подлинной жизни.
Наконец, из поколения в поколение в богемной среде продолжалась борьба между двумя разными и несовместимыми концепциями искусства и его отношения к политическим изменениям. Существовала позиция «конфликта», в рамках которой культура понималась прежде всего как «средство властного воздействия и/или поле символической борьбы», и «экзистенциалистская» точка зрения, сторонники которой считали, что «культура в первую очередь удовлетворяет универсальную потребность человека в смысле»[597]. Первый взгляд выражен в работах Пьера Бурдьё, и в трактовке поведения богемы, восходящей к его теории, на первый план выдвигается желание выделиться и погоня главным образом за экономической выгодой[598]. И действительно, как я уже сказала, возникновение богемы было реакцией на экономические изменения. Более ницшеанский подход, вдохновленный «Рождением трагедии», признает неизбежность «разрушительности, абсурда, ужаса, горя» в человеческой жизни, но настаивает, что искусство позволило считать эти черты бытия «эстетически значимыми и оправданными». Признавая присущие человеческому существованию «экзистенциальные трудности [и усваивая] по отношению к жизни эстетическую позицию, искусство делает жизнь возможной и заставляет ее ценить»[599].
Неоднозначность богемы и двойственность, с которой на нее всегда смотрели, отчасти объясняется тем, что она была полем постоянной, но не заканчивавшейся решительным исходом борьбы между двумя различными взглядами на культуру. Экзистенциальная точка зрения могла привести к возведению искусства в статус религии (искусство ради искусства). Сторонники политического утопизма, наоборот, преуменьшали значение искусства и вкуса (сводя их к желанию выделиться). Они не могли принять ни неизбежности страдания, ни тяготения человеческой жизни к незавершенности. Именно об этой незавершенности говорил Вальтер Беньямин: «…Прожитое можно в лучшем случае сравнить с прекрасной статуей, которая потеряла при перевозке все члены и теперь представляет собой не более чем ценный блок, из которого… надлежит высечь облик будущего»[600].
Особенность богемы состояла в том, что она постоянно сталкивала эти противоположности. Богема пыталась (если не всегда на практике, то по крайней мере в теории) преодолеть как вульгарность культурного популизма, так и элитарность трудного искусства. Живописное сравнение Беньямина точно передает суть этой попытки и ее мотивы: неизбежность несовершенства и страдания должна внушить нам ощущение трагизма — и в то же время надежды. Героизм богемных художников заключался в их неизменной верности этому идеалу. Найти им определение оказывалось невозможно потому, что они стремились к утопии.

Книга повествует о «мастерах пушечного дела», которые вместе с прославленным конструктором В. Г. Грабиным сломали вековые устои артиллерийского производства и в сложнейших условиях Великой Отечественной войны наладили массовый выпуск первоклассных полевых, танковых и противотанковых орудий. Автор летописи более 45 лет работал и дружил с генералом В. Г. Грабиным, был свидетелем его творческих поисков, участвовал в создании оружия Победы на оборонных заводах города Горького и в Центральном артиллерийском КБ подмосковного Калининграда (ныне город Королев). Книга рассчитана на массового читателя. Издательство «Патриот», а также дети и внуки автора книги А. П. Худякова выражают глубокую признательность за активное участие и финансовую помощь в издании книги главе города Королева А. Ф. Морозенко, городскому комитету по культуре, генеральному директору ОАО «Газком» Н. Н. Севастьянову, президенту фонда социальной защиты «Королевские ветераны» А. В. Богданову и генеральному директору ГНПЦ «Звезда-Стрела» С. П. Яковлеву. © А. П. Худяков, 1999 © А. А. Митрофанов (переплет), 1999 © Издательство Патриот, 1999.
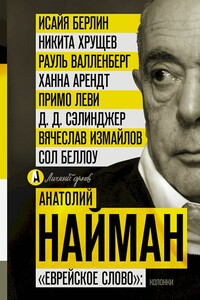
Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.
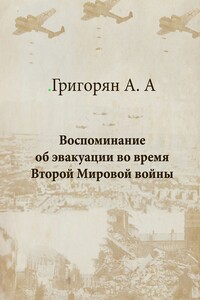
В период войны в создавшихся условиях всеобщей разрухи шла каждодневная борьба хрупких женщин за жизнь детей — будущего страны. В книге приведены воспоминания матери трех малолетних детей, сумевшей вывести их из подверженного бомбардировкам города Фролово в тыл и через многие трудности довести до послевоенного благополучного времени. Пусть рассказ об этих подлинных событиях будет своего рода данью памяти об аналогичном неимоверно тяжком труде множества безвестных матерей.
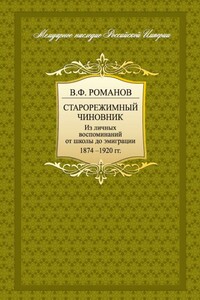
Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
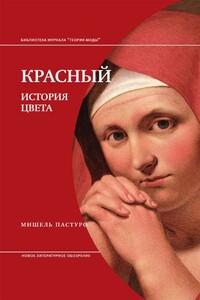
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.