Богема: Опыт сообщества - [21]
Мамардашвили как — то заметил, что в жизни мы всегда что — то изображаем, но то, какие мы есть, можно показать лишь изображением изображения. Его лекции — это и была своего рода «вторичная театрализация», когда взаимная игра «подражания» и «катарсиса» (момента, когда в аффекте исчезает объект подражания, когда mimesis обнаруживает свой языковый предел) указывает нам на возможность внеязыковой общности. В этой взаимной игре «подражание» (театрализация) жизни удерживается только за счет того, что в основе лежит нечто, чему нельзя подражать — мысль и свобода. Это — момент трансценденции, возникающий тогда, когда нечто общее и даже обыденное, имеющее отношение к каждому и принимаемое как самое естественное, вдруг оказывается оторвано от нас и наших способностей действовать, понимать, воспринимать. Так устроен безличный fatum греков или общий Закон иудеев. Эти образы не имеют и не могут иметь никакого изобразительного и языкового эквивалента, но в основании своем имеют некоторое материальное условие — общность. В философии этот момент необщественной общности крайне ослаблен. И сам Мамардашвили почти всегда настаивал на неком стоическом начале ego sum, отказываясь размышлять в терминах общности. Однако сама его практика философствования, сами метафоры, через которые он пытался описать этот момент вспышки мысли, позволяют интерпретировать его подобным способом. Мысль для него не только стремление к ego sum (способ пассивного сопротивления неподлинному), но и зрелище. И эти вещи нельзя разделить. Ибо оставив только ego sum, мы тут же имеем дело с высокомерием мысли, с ее «присвоением», что было всегда чуждо Мамардашвили. Для него мысль не может быть чьей — то собственностью. Это как раз тот «странный» объект, который нельзя извлечь «из себя», его можно и должно повторять, копировать, репродуцировать. Мысль подчиняется экономике дара: ее нельзя украсть, (поскольку, даже будучи сворованной, она не становится твоей собственностью) или присвоить, ее можно только отдавать. Фактически, то, что Мамардашвили называл мышлением и интерпретировал в терминах личного усилия, носит явно выраженный коммуникативный характер. И «зрелище мысли» необходимо для того, чтобы транслировать этот момент свободы, преодолевающий и язык, и понимание.
Мамардашвили часто говорит о мысли в терминах напряжения сил, но это «усилие быть», а вовсе не работа. «Быть» — это не казаться, не изображать, но и не значит быть природой, самим естеством, что в мире мышления невозможно. Мысль для него начинается из некой точки тождества, которая описывается им как картезианское cogito, но интерпретируется особым образом, как точка вызова всему миру. (Характерно, кстати, что при этом он неоднократно вспоминает бальзаковского Ростиньяка, готовящегося покорить, «переиграть» Париж.) Почему для Мамардашвили «мыслить» и «быть» так сильно связаны именно с риторикой усилия, что иногда создается ощущение, что мысль — тяжелейшая работа? При этом он часто прибегает к аналогии мышления и любви, прямо заявляя о том, что мысль имеет под собой именно аффективное основание, причем эта аффективность не внутренняя, а та, которая приходит всегда от другого, извне, порождая ситуацию противостояния миру в свободе. Используя выражение Левинаса, в данном случае можно говорить о «трудной свободе». В чем же трудность? Скорее всего, именно в том, что выше было описано как «вторичная театрализация». Философ (в отличие от актера и ученого) вынужден всегда с собой носить подмостки, ту сцену, на которой должно быть разыграно «зрелище мысли». В случае «советского философа» Мамардашвили это не могли быть случайные приспособления, выбранные им самим (впрочем, вряд ли они когда — либо вообще бывают случайными), а именно те, которые были востребованы интеллигентским сообществом, и которые можно назвать «моральной формой». Эта «моральная форма» всегда скрыта от общества и не имеет отношения к общественной морали. Она аффективна. Она, прежде всего, опыт. Опыт свободы вне бытия, то есть — опыт сообщества.
Заключение
Кто говорит, когда я говорю «мы»?
Ж. — Л. Нанси
Во всех этих окольных и разнонаправленных движениях, мы должны были сохранить «богему» как ускользающую социальную и историческую единицу, которая сохраняется в качестве языкового и смыслового образования. Эффект «богемы» в настоящее время более значим, чем смысл слова «богема», чем конкретное существование какой — либо богемы или какого — либо его представителя.
Можно сказать, что сегодня понятие «богемы» предельно бессодержательно. Это значит, что за ним уже не стоит конкретного референта, а отсылает оно к пространству, где история, социология, семиотика оказываются на пределе своих аналитических возможностей и не в состоянии описать ту чистую избыточность богемы, ее бессмысленность и неуместность, ее сопротивление любому принципу организации. Любые связи и материальные и абстрактные размыкаются в тот момент, когда мы задаемся вопросом о смысле богемы. И это размыкание, по линиям которого мы стремились пройти, приближает нас к иному смыслу сообщества. Богема есть пример такой неустойчивой общности, связи в которой возможны лишь в ситуации разъединенности, когда «мы» не образует общую субстанцию, но, напротив, принципиально множественно, когда его сингулярные элементы (частные существования) открыты друг другу, выставлены навстречу друг другу. Это близость, не социальная. Напротив, все социальные связи здесь отринуты, они не имеют принципиального значения. Богема всегда

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
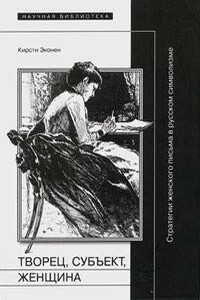
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.