Битники. Великий отказ, или Путешествие в поисках Америки - [3]
Именно так: миф, а не просто история (с другой стороны, где вы видели немифологизированную историю?..) Отсюда и до самого конца этой книги я намереваюсь описывать данный миф, с садистским наслаждением копаться в его внутренностях – так что не говорите, что вас об этом не предупреждали. Поэтому для ясности сразу определю, что я буду понимать под мифом. Этот древнегреческий термин, в чем нетрудно убедиться самостоятельно, означает «слово», «рассказ». Миф и есть рассказ, но рассказ особый, с секретом, с ключом. Миф – это рассказ о себе, способ речевой саморепрезентации, о чем знал уже Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф, и тот же Виламовиц недвусмысленно отождествлял такой миф с поэзией. Рассказ о себе: сравни «Легенду о Дулуозе» Керуака – в конечном итоге легенду о Керуаке Дулуозе; Билла Ли, одновременно и персонажа и автора у Берроуза; неформальную интимность инстанции Я в поэзии Гинзберга… Возможно, это гуру Генри Миллер научил своих будущих адептов выстраивать литературу как полноценный миф о самом себе. Возможно, это просто витало в воздухе времени.
Значит, миф – это не рассказ ученого, который повествует об объектах восприятия и законах их существования. Это не рассказ литератора, который повествует о мире своего воображения, даже если последний имеет вполне реальные корни. Миф, в отличие от них всех, не различает самого себя и свой объект. Сам миф и есть свой объект, а вместе и субъект, поэтому центральным свойством мифа как репрезентации является неразличенность. Часто именно это имеют в виду в тех случаях, когда называют миф центральной чертой дикарского сознания. Оно ведь дикое, непросвещенное, потому и неразличенное – дикарю невдомек, где он сам, а где его репрезентация. На деле же – призываю в свидетели Ролана Барта и многих других – миф является чертой любого сознания, нашего в не меньшей мере, чем дикарского. Дело вообще не в истории и не в просвещении, а в позиции, которую занимает рассказчик. В одной позиции он умница, а в другой позиции он дикарь, даже сегодня, даже сейчас.
В связи с этим человеку нетрудно быть и литератором, и мифологом – в один и тот же момент, но в двух разных позициях. Рассказывая историю, он вроде бы выдумывает некий художественный мир и отдает себе в этом отчет, но здесь же и тем же жестом он выписывает миф, рассказ о самом себе. Так один и тот же человек по имени Джек Керуак был литератором, потому что создавал художественный текст под названием «На дороге», но он же был и мифологом, потому что этим текстом он слагал миф о самом себе и своем разбитом поколении.
Пока что довольно теории – она еще будет тешить нас по ходу дела. Так как миф всегда уходит корнями в безвременье, то и у этой гонки нет своего собственного, определенного начала. Сама жизнь есть движение, а остановкой будет, очевидно, лишь смерть. Поэтому мы можем попасть пальцем в небо – и угадать самую суть. Мы можем оказаться где-то в сороковых, когда бит-триумвират (то есть Гинзберг, Керуак и Берроуз) сошелся в Колумбийском университете, или где-то в пятидесятых, когда одна за другой в течение четырех лет вышли три книги, бросившие американскую литературу, как залежалый камень, в самом неожиданном направлении. Хотя мы можем – и кто нас остановит? – оказаться где-то рядом с блаженным Уитменом в его совсем еще юной Новой Англии, а может быть, в точке рождения английского языка – или рядом с Адамом Кадмоном, дающим вещам имена. Мы можем оказаться где угодно, и это будет точное попадание, ведь у этой гонки нет начала, и сама жизнь есть движение, динамика мифа. Сказать, что всё кончено, а мы смотрим на мертвый остаток былого живого события с безопасного аналитического расстояния, не получится. Всё продолжается, всё идет своим путем, своей дорогой. С нас будет довольно, если мы схватим комету за хвост – и насладимся поездкой.
Фактически заканчивается 2016 год, и мало что в его пыльном воздухе напоминает о некогда славном разбитом поколении. Не так давно имели место важные в истории битников юбилеи: полвека с момента выхода поэмы Гинзберга «Вопль», следом полвека с момента выхода основополагающего для всего поколения текста «На дороге» (они были изданы в 1956 и 1957-м соответственно; в 1959-м появился «Голый завтрак»). Не сказать, чтобы по нашу сторону Атлантики эти события были особенно заметны. Несколько позже до нас добрались художественные фильмы, один за другим, призванные будто бы обновить проблематику и поднять новую волну забытой моды на битников. Не могу судить, добились ли они чего-то похожего, ибо фильмы особенно ничем не выделялись, кроме того, что американская политкорректность обязала создателей одного из них содомизировать отставного Гарри Поттера почти что на крупном плане. В остальном ничего особенного.
С какой-то подозрительной регулярностью у нас издается и переиздается Джек Керуак, и, хотя он по-прежнему не переведен в полной мере, мы обладаем почти что достаточным корпусом его основных текстов на русском языке. Страшно представить, кто всё это читает. Мода на беспредельщика Уильяма С. Берроуза, кажется, давно прошла, и теперь его книги довольно непросто отыскать. Видимо, все всё давно прочитали и поняли – и правда, в прозе Берроуза от текста к тексту мало что меняется, поэтому или наслаждайся, или поди прочь. Ни одного полноценного сборника Аллена Гинзберга на русский язык переведено не было. Не лучше дело обстоит со всей прочей бит-поэзией – видимо, поэзия как таковая на особом счету, и проще переводить ширпотребный нон-фикшн про красивую жизнь. Здесь я буду ссылаться на поистине фундаментальный сборник, выпущенный у нас довольно давно легендарным издательством «Ультра. Культура» Ильи Кормильцева – я говорю об «Антологии поэзии битников», где, помимо Гинзберга, представлены прекрасные переводы из Ферлингетти, Корсо, Снайдера, Макклура, Ди Примы, Орловски, Уэлча, Ламантиа, Крили, Данкена, Амири Бараки, Кауфмана и, в дополнение, Керуака, который тоже писал что-то вроде стихов. Достать эту книгу в качестве вещи теперь едва ли возможно, да и кто будет ее переиздавать, но Интернет полнится чудесами, и не мне вам об этом рассказывать.
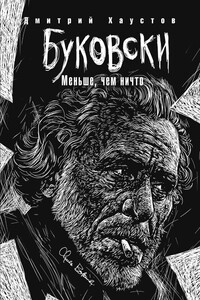
В этой книге, идейном продолжении «Битников», литератор и историк философии Дмитрий Хаустов предлагает читателю поближе познакомиться с культовым американским писателем и поэтом Чарльзом Буковски. Что скрывается за мифом «Буковски» – маргинала для маргиналов, скандального и сентиментального, брутального и трогательного, вечно пьяного мастера слова? В поисках неуловимой идентичности Буковски автор обращается к его насыщенной биографии, к истории американской литературы, концептам современной философии, культурно-историческому контексту, и, главное, к блестящим текстам великого хулигана XX века.
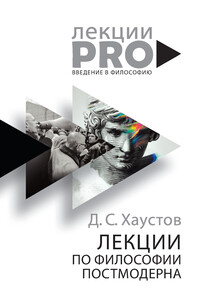
В данной книге историк философии, литератор и популярный лектор Дмитрий Хаустов вводит читателя в интересный и запутанный мир философии постмодерна, где обитают такие яркие и оригинальные фигуры, как Жан Бодрийяр, Жак Деррида, Жиль Делез и другие. Обладая талантом говорить просто о сложном, автор помогает сориентироваться в актуальном пространстве постсовременной мысли.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.