Бездомные - [46]
И ведь я должна была, по обету, так торжественно данному в день святой троицы, вывести на дорогу Вацлава, который был тогда в седьмом классе, помочь Генрику. Давние, давние времена…
О утро того дня, поздней осенью, больное и заплаканное утро, когда, дрожащая от холода и (что уж там скрывать!) от страха, я тряслась на извозчичьей пролетке!.. Приезжаю, нахожу эту Беднарскую улицу, в моем воображении похожую на какую-то извивающуюся гадину, – и вскоре мы с пани В. идем к Предигерам. Я прохожу по улицам. Увиденные мною впервые в такой день (помертвевшими от трусости глазами), они кажутся мне холодными и мокрыми насквозь, негостеприимными, как та «скорлупа, в которой плавает какой-то гад…».[53] Входим. Как аршином смеренные лакейским взглядом, ожидаем в пышном кабинете. После долгих мучений я слышу, наконец, шелест шелкового платья. Ах, этот шелест…
Появляется пани Предигер. Нос, правда, еврейский, зато взгляд аристократический, совершенно по сарматским образцам. Разговариваем обо мне, о моем аттестате, о том, чему я должна учить Ванду, мою будущую ученицу. Наконец, как будто случайно, переходим с польского языка на французский. И в конце концов вопрос: сколько я желаю получать в месяц? Минута колебания. Затем я, провинциалка, решаюсь на героизм и, сама не веря собственным ушам, называю максимальную цифру, которая когда-либо возникала в моем воображении: пятнадцать рублей.
Отдельная комната, полное содержание и пятнадцать рублей в месяц! Слышите вы, все, кто просвещает глупых детей между заставами епископской столицы?[54]
Пани Предигер не только соглашается, но еще и «с удовольствием»…
В ту же ночь я спала уже в уютной комнатке с окном на улицу Длугую. Да будет благословен год, который я провела там! Незнакомая с Варшавой до такой степени, что могла бы артистически изображать барана (если сравнить Варшаву с новыми воротами), я самым примерным образом сидела дома, занималась с Вандой и читала. Библиотека пана Предигера «была всегда к моим услугам», – как высокопарно выразилась пани Предигер. Никогда в жизни, ни раньше, ни позднее, я не поглощала столько книг. Чего, чего только не держала я в то время в руках!
Да что там! Я была в то время приятная, прямо как леденец… «И в этом суть!» – как говаривал добрейший пан Мультанович. Я любила Вандзю, мою ученицу, – любила искренне, как родную младшую сестренку. Любила даже пани Предигер, хотя она всегда была со мной сурова, высокомерна и ослепляла меня величием свысока, как газовый фонарь. Быть может, я от всего сердца любила бы и пана Предигера, если бы не то, что он был богатым, тупым, отвратительным жирным мужчиной, в чьих глазах я в течение целого года видела лишь два чувства: хитрость или торжество.
Постепенно все мои высокие чувства погасли. Между мной и обитателями этой квартиры не расцвела дружба, не сложились даже доброжелательные отношения. Теперь-то я уже знаю, что в этом нет ничего удивительного… Разве цветок, хотя бы самый жалкий, самый плохонький цветочек, расцветет на льду?
Я помню свои первые посещения театра, концерта «Лютни», лекций. Сейчас я ощущаю лишь слабые отзвуки того чудесного, почти мистического волнения, которое я испытала, увидев на сцене «Мазепу», блестящих актеров, которые произносили дивные стихи Словацкого – те самые, которые я знала наизусть, «мои» стихи… Тогда же судьба сподобила меня узреть некоторых литераторов, которых я, по своей вывезенной из Кельц простоте, считала прямыми потомками Аполлона. Впоследствии – но только впоследствии, – я убедилась, что гораздо чаще они могли бы вести свою родословную от Вакха и Меркурия. Талант – это в большинстве случаев сума, иногда даже полная драгоценностей, которую, по воле случая, таскает за спиной первый попавшийся господин, иной раз даже первый попавшийся воришка. Теперь-то я это знаю. Но тогда! Вспомнить только тот священный трепет, с которым я входила в комнату, где, приглашенный паном Предигером поужинать, сидел он – он сам…
Но, впрочем, я и теперь не прочь была бы увидеть хоть из какого-нибудь уголка Толстого, Ибсена, Золя, Гауптмана. И хотела бы услышать своими ушами Пшибышевского,[55] Серошевского,[56] Тетмайера[57] и всего лишь одного «вича» (разумеется – Виткевича[58]).
Но всем этим знаменитостям я предпочитаю теперь мир, с которым столкнулась здесь. Мир, который меня меньше всего разочаровал, среда, чувствующая без аффектации, наши «девы-матери», люди кроткие духом, в стоптанных башмаках и в порыжевших мантильках.
Некогда мне казалось, что из них и состоит мир. Остальные, думала я, это временно заблудшие, и, познав истину, они обратятся к ней и начнут новую жизнь. В этих мечтаниях меня утверждали письма Сташки Бозовской, которые она писала из глухой дыры, куда уехала. Эти письма были не чем иным, как возвышающим обманом, общением легковерных душ. Теперь вот Сташка уже умерла. У меня и сердце и глаза полны слез…
18 октября. Раз я уже начала писать, хотелось бы вспомнить, обдумать и то и это. В памяти всплывает столько подробностей, столько лиц, событий и чувств. Все это очень трудно объять и слить воедино, – все разбегается, как ртуть, и бежит в разные стороны. Такова наша жизнь: быстрая, подвижная, без руля…

Впервые напечатан в журнале «Голос», 1889, № 49, под названием «Из дневника. 1. Собачий долг» с указанием в конце: «Продолжение следует». По первоначальному замыслу этим рассказом должен был открываться задуманный Жеромским цикл «Из дневника» (см. примечание к рассказу «Забвение»).«Меня взяли в цензуре на заметку как автора «неблагонадежного»… «Собачий долг» искромсали так, что буквально ничего не осталось», — записывает Жеромский в дневнике 23. I. 1890 г. В частности, цензура не пропустила оправдывающий название конец рассказа.Легшее в основу рассказа действительное происшествие описано Жеромским в дневнике 28 января 1889 г.

Повесть Жеромского носит автобиографический характер. В основу ее легли переживания юношеских лет писателя. Действие повести относится к 70 – 80-м годам XIX столетия, когда в Королевстве Польском после подавления национально-освободительного восстания 1863 года политика русификации принимает особо острые формы. В польских школах вводится преподавание на русском языке, польский язык остается в школьной программе как необязательный. Школа становится одним из центров русификации польской молодежи.

Роман «Верная река» (1912) – о восстании 1863 года – сочетает достоверность исторических фактов и романтическую коллизию любви бедной шляхтянки Саломеи Брыницкой к раненому повстанцу, князю Юзефу.

Рассказ был включен в сборник «Прозаические произведения», 1898 г. Журнальная публикация неизвестна.На русском языке впервые напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы», 1906, № 11, под названием «Наказание», перевод А. И. Яцимирского.

Впервые напечатан в журнале «Голос», 1891, №№ 24–26. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).Студенческий быт изображен в рассказе по воспоминаниям писателя. О нужде Обарецкого, когда тот был еще «бедным студентом четвертого курса», Жеромский пишет с тем же легким юмором, с которым когда‑то записывал в дневнике о себе: «Иду я по Трэмбацкой улице, стараясь так искусно ставить ноги, чтобы не все хотя бы видели, что подошвы моих ботинок перешли в область иллюзии» (5. XI. 1887 г.). Или: «Голодный, ослабевший, в одолженном пальтишке, тесном, как смирительная рубашка, я иду по Краковскому предместью…» (11.

Впервые напечатан в журнале «Голос», 1892, № 44. Вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895). На русском языке был впервые напечатан в журнале «Мир Божий», 1896, № 9. («Из жизни». Рассказы Стефана Жеромского. Перевод М. 3.)

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
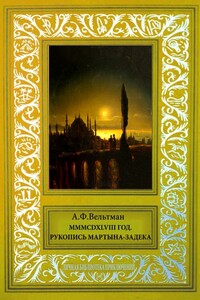
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
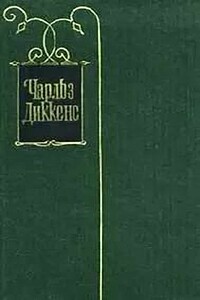
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.