Без заката - [34]
Гроза шла издалёка, с востока, с северо-востока, оттуда, где она когда-то уже шумела над Верой. Обшитая тесом дача озарялась тогда, будто мгновенно вздрагивала, — если спуститься в сад и оттуда, спрятавшись, смотреть, что было однажды сделано, чтобы испытать собственную смелость. Сперва по небу катились с грохотом, как по твердому, чугунные шары, потом оглушительно трепетали листы железа и, наконец, кто-то рвал в тучах полотнища гигантского мадепалама. И опять вздрагивал дом в свету, и убивало кого-то едущего трусцой по дороге, в полях, и раскалывало осину, — почему-то именно вот эту, а не ту, и не ту.
Гроза шла на Париж прямо из-под петербургских лесов, где наверное еще — трудно в это поверить — целый, невредимый, обшитый тесом, стоит старый дом с расшатанными перилами балкона.
Но было в этих небесных разрывах, в неполноте звука, в разровненных и уж слишком кратких молниях, что-то южное, что-то иное, напоминающее одновременно и берег Средиземного моря, короткие и толстые магнолии в саду Лизиной виллы, стоявшей на краю города, близ дороги, мчавшейся в Болье.
Окна там запирались заблаговременно, и душный воздух, истомившийся за день, оставался в комнатах, в то время как над морем и городом бушевал свежий ветер, проливался прохладный, душистый дождь. Гроза там катилась не по тишине, а по немолчному рокоту моря, по шелесту автомобилей по шелковой дороге, по собственному непрерывному эхо где-то в горах. И эхо, и шелест, и рокот все продолжались, когда стихал гром, и Вера широко открывала окна.
— Здесь у нас душно, как в подводной лодке, — говорила она, и с магнолий и рододендронов летело в комнаты дыхание, которым нельзя было досыта надышаться. И однажды, именно в такой дождь, только что стихли молнии, Вера увидела знакомую фигуру, бегущую по улице, с поднятым воротником. Она сбежала в сад, отперла калитку, ее обдало порывом почти холодного ливня. Карелов молча побежал по саду за ней, в дом, с него текли потоки, настоящие потоки, будто его только что обдали из ведра.
— Не могу же я, — бормотал он, срывая налипший на спину и на руки пиджак, — не могу же я в самом деле ходить с зонтиком!..
Было ясно, бесспорно — и не надо бы об этом говорить, потому что это слишком больно: она была создана без своего отражения, о котором когда-то мечталось. Какой она была глупой! Не дай Бог воротиться в то состояние ничегоневедения и обольщения. Жизнь больше всего похожа на воду, струящуюся между пальцами, и вообще не все ли равно, на что она похожа? Она знала навеки, что в жизни этой, в грубой, плоской, ниццской жизни ей встретилось совершенство — такой удивительный человек, на которого весело было смотреть — не Шекспир, не Бетховен, не Рембрандт, а совершенство человеческого существа, с правильным черепом и целыми зубами, и если через тысячу лет найдут его череп, его длинный и узкий скелет, то о нашей исчезнувшей расе будут высокого мнения.
Дождь струился с него на паркет, он смеялся, полотенцем вытирая руки и волосы; а Вера запирала за ним дверь и бежала к окнам — словно он был птицей и мог вылететь. «Нагнитесь!» — сказала она: к затылку его пристал мокрый лист, а все только для того, чтобы понюхать, не пахнет ли он мальчишкой, воробьем, — да, он пахнул немножко Самом, этот взрослый, тридцатилетний человек. Он не ее. Она совсем одна. Оборвалось все, что тянула она за собою раньше, где-то еще между Штеттином и Парижем оборвалось оно — за то, что она всех любила, всему радовалась и никого не предпочитала. И теперь она стоит перед человеком, и у нее нет ничего, кроме какого-то странного восторга перед каждым его жестом — из этого восторга всякая на ее месте сделала бы счастье (в зверином тепле, в звериной полутьме), а она — нет. Может быть, потому, что не надо быть храброй, не надо быть сильной, самоуверенной, крепкой? Блаженны… Нет, она никак не вспомнит этот евангельский стих, и некого спросить — какие все безбожники кругом! И совершенство мое — безбожное тоже.
— Эй, где вы там? Смотрите, я нашла сиреневое счастье.
— Где? Где? Дайте его собачке, — пусть она его съест… Вера села на постели и зажгла свет. Все было тихо, гроза давно кончилась. «И не убила меня, — насмешливо сказала себе Вера, — хоть я и на седьмом этаже». И вдруг она ясно представила себе, как в электрический счетчик, висящий в прихожей, бьет молния, бежит по проводам и, из этой маленькой круглой лампы, с ночного столика, убивает ее. И тогда наступает тьма.
И в это мгновенье рушится все: и старая дача, где-то там, на севере, на северо-востоке (почему-то чудом уцелевшая до сих пор), и рододендрон в саду Лизи, и дорога в Болье, и от всего Средиземного моря не остается ни одного единственного синего лоскутка; в это мгновенье вечной тьмы рассыпается в прах Париж с Дашковским, могила Александра Альбертовича, все, все, что только было, что прошло по сердцу, что запомнилось и что забылось, — все без остатка пропадает, проваливается вселенная.
Но лампа под колпачком горит тепло и светло, по чистому небу бежит чистый и ясный Млечный путь. Может быть, по небу полуночи ангел летит? Не видно; не слышно. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем звучали. Это не цыганский романс, это — Фет, а Шурка Венцова пела это, как цыганский романс. И еще она пела: Я вас ждала, а вы, вы все не шли.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
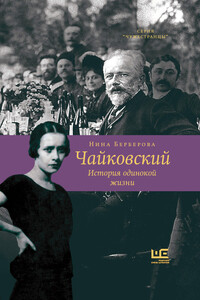
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
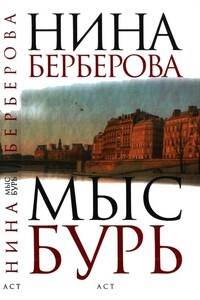
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».