Без заката - [25]
Напротив отца, в кресле с подушечкой, сидела мать и раскладывала пасьянсы — старыми русскими картами с розовым и голубым крапом. Это занятие не шло ей, оно ее старило, но об этом она не заботилась: она уставала за день и вот, когда посуда бывала перемыта и на завтра кое-что сготовлено, и перестираны были тряпки, и в уборной подтерто (за путиловцами), и руки ее — нежные, прохладные, руки — отмыты и насухо вытерты, она садилась в кресло с подушечкой и бралась за колоду. И Вера садилась рядом с иглой и старым штопальным грибом, и то это была отцовская ластиковая заплата, то собственная ползущая под иголкой, когда-то гимнастическая юбка.
Александр Альбертович рассказывал очень тихо, чтобы не мешать чтению «Правды», и в рассказах его было всегда столько неожиданного, удивительного и трогательного, что Вера иногда не выдерживала и вскидывала на него глаза, а мать, окончив пасьянс, сидела склонившись над картами и молча продолжала слушать, или принималась, все на столе смешав, тихонько смеяться. Смеялась она теперь совсем тихо, но все так же длительно и чисто. И было рассказано в те вечера и про сирень, и про утопленника, и про многое, многое другое.
Иногда в своих рассказах он доходил до последних лет, и когда говорил, как тащили отца по снегу, как пропадали передачи где-то между Гороховой и Шпалерной (а в тюрьме давали овес), когда рассказывал, как уезжали летом знакомые французские оптанты — через Польшу, через Европу, туда, в далекую страну мира, победы, свободы — было у него в глазах что-то, чего нельзя было вынести. Он тогда еще больше понижал голос, чтобы его не слышал Верин отец, который однажды вдруг заспорил с ним о политике, и это было тяжело слушать. И тогда Вере казалось (уже тогда!), что сам он всех несчастнее — и оптантов этих (болевших цингой), и всех, всех старых, измученных людей, которых где-либо, когда-либо тащили на расстрел.
Наступил март и в квартире стало теплее. Можно было сидеть теперь в Вериной комнате. Кутаясь в старый Настин платок, она устраивалась в низком на трех ногах кресле, а он где-нибудь, непременно на самом неудобном стуле. Они были вдвоем. Вера читала. Это был период постоянного жадного безразборчивого чтения. Александр Альбертович тоже держал на коленях книгу. И нельзя было сказать, что он вовсе не глядит на нее, но почему-то любая страница наводила на него облако текучих и — он сам это знал — бесполезных мыслей.
— И никогда, никогда, — спрашивала Вера, подпершись о колено рукой, — не замирало у вас внутри от чего-нибудь совершенно дурацкого, от росы, от рассвета, от мысли, что никакая смерть не отнимет у вас чего-то самого главного? А? Подумайте.
— Нет.
— Вы не помните, чтобы что-нибудь вас когда-нибудь обрадовало до обморока, до потери рассудка?
— Нет.
— И вы не крикнули бы «еще минуточку», если бы оказались под виселицей?
— Нет… Знаете, я никогда не покончу с собой, но если бы меня кто-нибудь убил…
— Вас нельзя убить.
Иногда, ночью, она выходила провожать его до угла, стояла и смотрела, как он переходит улицу, еще раз снимает шляпу и скрывается. Несколько раз она пробовала молиться за него. Однажды, она подумала, смотря ему вслед, что он наверное очень легок, и что если лечь и дать ему пройти по ней, то не будет больно. В день, когда начался ледоход, она предложила ему пойти на Неву.
— Мне никак нельзя, — ответил он. — Эти дни у меня самые страшные.
У нее сжалось сердце. «И не надо, — сказала она. — И я не пойду». Он посмотрел беспокойно. «Нет, вы идите, вам надо».
Но она не пошла. «Все — в меру, — сказала она себе. — Если бы можно было вместе пойти и стоять там, в солнце и ветре, и при этом вот так любить, душа бы не выдержала. Нельзя. Все в меру».
Вечером он пришел, как обычно. «Посидим у вас, — сказал он, — мне нужно вам кое-что сказать».
Вера с трудом открыла давно не открывавшуюся печную заслонку, засучив рукав, нащупала и вынула вьюшки, и принесла из чулана ворох старых газет. Она медленно начала скручивать жгуты, зажигать и бросать их в печку. Ветер загудел в трубе. Был бешеный, рвущийся ввысь огонь, был даже некоторый мгновенный жар и, вероятно, в небе, над трубой, розовый отсвет.
— Я сегодня получил одну бумагу, — начал он, испытывая тревожное блаженство от тепла, от мысли, что загорится сажа и будет пожар, от того, что Вера сидит близко и спиной к нему. — Я получил из Москвы разрешение на выезд. Я долго ждал его. Но если вы не хотите ехать со мной, я останусь.
Он помолчал, она продолжала скручивать и рвать газеты.
— Знаете, как вам надо будет ехать? Моей женой. Вас впишут мне в паспорт. Я хочу еще вам сказать, что в Париже вы ни в чем не будете нуждаться. Брат оставил мне. Там Лизи.
Она обернулась.
— Видите ли, какая история, — сказала она деловито, — я могу и здесь. Я могу и без Парижа.
Он серьезно и без всякой робости взглянул ей в лицо.
— Я знаю, что вы можете по-всякому, потому что вам двадцать лет. И в тридцать, и в сорок вы тоже сможете по-всякому, потому что вам сейчас двадцать лет. Я знаю, что вы из тех, которых ничем не испугаешь и ничем не соблазнишь… Я знаю… Пожалуйста, не прерывайте меня. Я люблю вас. Никого до вас я не любил.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
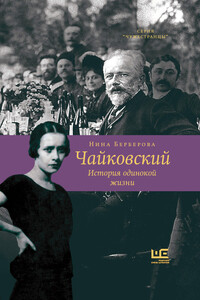
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
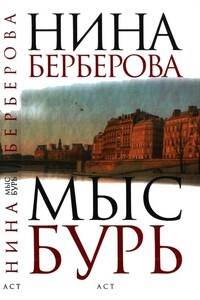
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».