Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье - [13]
Я понимаю, что у меня биография совершенно иная и, кроме того, нет большого голоса.
ДГ. А из поэтов-эмигрантов кого бы вы назвали?
ИЧ. Я всегда очень любил Георгия Иванова, даже его ранние, петербургские еще стихи, стихи времени "Цеха поэтов" и журнала "Аполлон". Это были стихи эстетские, стихи сноба. Георгий Иванов всегда был снобом и эстетом и им остался. В этом я ничего плохого не вижу. Есть снобизм умный и есть глупый. Иванов всегда писал не то что женственно, но и не мужественно.
Это были прелестные стихи, и вовсе не декадентские, и без всякой, так сказать, однополой любви, без всякого гомосексуализма (как некоторые стихи Михаила Кузмина), стихи очень эффектные, очень изящные. И вы чувствовали, что поэт поставил перед собой задачу написать красивые стихи.
Слово "красота" теперь, конечно, скомпрометировано, и все избегают его, пытаются как-то иначе определить его сущность. Но по существу красота - это все-таки то, о чем мы все время думаем, когда пишем стихи, или чем мы как-то проникнуты. Так вот, Георгий Иванов был одним из моих любимых поэтов и им остается.
Я с ним встретился, и он взял мой сборник и статьи, сказавши про статьи: "Это каша, но это творческая каша", и устроил их в парижском журнале "Числа", который издавал ученик Гумилева Николай Оцуп, тоже член "Цеха поэтов". Оттуда, так сказать, и идет мой "творческий путь".
Некоторые считают, что мы - эмигрантские поэты, лишенные России, -как бы уже не говорим от ее имени. Я все-таки думаю, что мы говорим от имени вечной России, хотя мы лишены всякого влияния.
ЮРИЙ ИВАСК
13 марта 1986 года Юрий Павлович скончался от сердечного приступа, Это случилось за две недели до того, как мы с ним договорились встретиться и провести интервью. Незадолго до кончины, готовясь к нашему интервью, Юрий Павлович прислал мне подробное письмо с изложением его писательского кредо. Я привожу его - с некоторыми сокращениями - вместо несостоявшегося интервью.
Амхерст, штат Массачусетс, США
1 февраля 1986
Семья
Мой прадед по отцу - эстонский мельник. Дед - агроном, женился на немке, и в семье говорили по-немецки. Отец юношей покинул Прибалтику, обосновался в Москве и совсем обрусел. Женился на моей матери, урожденной Фроловой. Она дочь московского ювелира и принадлежала к так называемому именитому купечеству Живаго - из настоящих Живаго. Наша семья никогда не покинула бы Россию, если бы не голод, холод и террор. Мне было 13 лет, когда мы переселились в Эстонию, где я прожил более 20 лет. Тринадцатилетний мальчишка - белый лист. Но и в отрочестве я хорошо знал: я только русский, и почти не общался с эстонцами. Я навсегда остался без русского пространства под ногами, но моей почвой стал русский язык, и моя душа сделана из русского языка, русской культуры и русского православия.
Италия
Чувствую себя кровно связанным с Западной Европой и в моих стихах постоянно воспевал все европейские нации. Как-то даже страстно полюбил малоизвестную русским Португалию, но более всего утвердился в италофильстве. 1 октября 1980 года мне посчастливилось: я был представлен папе Иоанну Павлу Второму на площади Святого Петра. Я поднес ему русские стихи, ему посвященные. Люблю католичество, но, конечно, остаюсь православным.
Иммиграция в США
Осенью 1949 года я, вместе с моей покойной ныне женой Тамарой, переехал в Америку, а через 5-6 лет мы стали американскими гражданами. Я благодарен Америке: только здесь я смог заняться любимым предметом: русской литературой... Получил докторат в Гарвардском университете и до моей отставки в 1977 году преподавал русский язык и литературу в университетах Калифорнии, Канзаса, Вашингтона и, последние годы, в Массачусетсе. Но Америку не воспевал. Впрочем, есть и исключение. Я посвятил немало стихотворений Эмили Дикинсон. Она, по-моему, гениальный поэт. Парадоксально, что эта американка была на редкость антидемократична. Лет двадцать не выходила из своего дома и не принимала гостей. Какая-то благоприятная звезда привела меня в город Амхерст, где жила Эмили. Это полустишие кажется мне лучшим из того, что я написал: "Еще ее июль...". Здесь так называемый гиатус - запретное для поэтов столкновение гласных и полугласных... Моими стихами я всегда недоволен, а этими горжусь. Эмили остается для меня живой. Иногда я с ней гуляю в стихах:
Мексика
Обожаю Мексику. Семижды ездил туда. Мексике я обязан тем, что, пусть и очень по-книжному, можно назвать углубленным пониманием жизни. В городе Сан Мигель де Альенде я увидел полураскрытую калитку и нерешительно вошел во внутренний дворик-патио. Поразили меня два столь противоположных запаха. Одна ноздря уловила запах розы, а другая -детских пеленок. Какой контраст! И я понял, что давно уже воспринимаю все в противоположностях, и вот родилась моя мексиканская строчка -оксюморон:
Да, в этот момент я был вне времени, в какой-то вечности. Это был мой удивительный, ошеломляющий, экзистенциальный момент жизни.
Я также написал цикл стихов "Завоевание Мексики". Написан этот цикл валким стихом раешника, который Пушкин использовал для комических, но и жутковатых стихов о Попе и его работнике Балде. Трое фантастических русских - речистый старик Еремей, тихоня Иванушка и Золушка - чуть ли не с неба падают в Мексику. Все они хлысты, и я давно ими интересуюсь. Они же своего рода христиане-анархисты. Неожиданно и мирно они завоевывают Мексику. Только недавно я понял замысел этой моей поэмы. В юности я верил в мессианистические грезы Достоевского: Русь спасет мир! (Теперь так не думаю.) Отталкивался от коммунистического мессианизма, идущего от Красной Москвы. И вот мой былой мессианизм я бессознательно проецировал на Мексику... Ритм сказа, раешника - "потешный", это ведь вроде рифмованной прозы, но есть и "серьез". Вот две строчки из моего "Завоевания Мексики": обращение к так называемым мексиканским кристерос - христовцам.
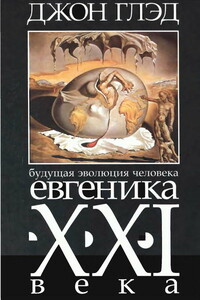
Книга рассказывает об истории евгенического движения, о его роли в формировании человека будущего, анализирует этические и политические выводы, неизбежно вытекающие из законов генетики, и показывает место человека как биологического вида в глобальной экологии.Речь идёт о научном универсалистском мировоззрении, которое отвергает привычное политическое деление на «левых» и «правых» и призывает к борьбе за права будущих поколений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
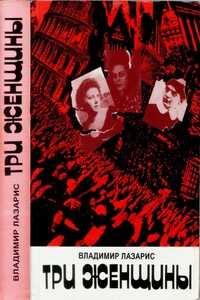
Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.