Белый отель - [5]
3
4
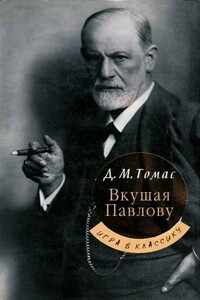
От автора знаменитого «Белого отеля» — возврат, в определенном смысле, к тематике романа, принесшего ему такую славу в начале 80-х.В промежутках между спасительными инъекциями морфия, под аккомпанемент сирен ПВО смертельно больной Зигмунд Фрейд, творец одного из самых живучих и влиятельных мифов XX века, вспоминает свою жизнь. Но перед нами отнюдь не просто биографический роман: многочисленные оговорки и умолчания играют в рассказе отца психоанализа отнюдь не менее важную роль, чем собственно излагаемые события — если не в полном соответствии с учением самого Фрейда (для современного романа, откровенно постмодернистского или рядящегося в классические одежды, безусловное следование какому бы то ни было учению немыслимо), то выступая комментарием к нему, комментарием серьезным или ироническим, но всегда уважительным.Вооружившись фрагментами биографии Фрейда, отрывками из его переписки и т. д., Томас соорудил нечто качественно новое, мощное, эротичное — и однозначно томасовское… Кривые кирпичики «ид», «эго» и «супер-эго» никогда не складываются в гармоничное целое, но — как обнаружил еще сам Фрейд — из них можно выстроить нечто удивительное, занимательное, влиятельное, даже если это художественная литература.The Times«Вкушая Павлову» шокирует читателя, но в то же время поражает своим изяществом.
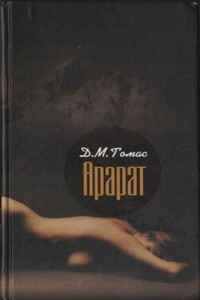
Вслед за знаменитым «Белым отелем» Д. М. Томас написал посвященную Пушкину пенталогию «Квинтет русских ночей». «Арарат», первый роман пенталогии, построен как серия вложенных импровизаций. Всего на двухста страницах Томас умудряется – ни единожды не опускаясь до публицистики – изложить в своей характерной манере всю парадигму отношений Востока и Запада в современную эпоху, предлагая на одном из импровизационных уровней свое продолжение пушкинских «Египетских ночей», причем в нескольких вариантах…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Отправляясь в небольшую командировку в Болгарию, россиянка Инга не подозревала о том, что её ждут приключения, удивительные знакомства, столкновения с мистикой… Подстерегающие опасности и неожиданные развязки сложных ситуаций дают ей возможность приблизиться к некоторым открытиям, а возможно, и новым отношениям… Автор романа – Ольга Мотева, дипломант международного конкурса «Новые имена» (2018), лауреат Международного литературного конкурса «История и Легенды» (2019), член Международного Союза писателей (КМ)
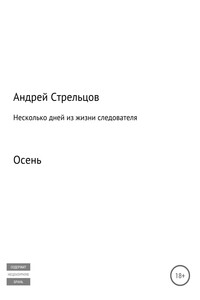
Жизнь и приключения девушки-следователя в текущей реальности и в её представлениях о ней. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.

Этот сборник включает в себя несколько историй, герои которых так или иначе оказались связаны с местами лишения свободы. Рассказы основаны на реальных событиях, имена и фамилии персонажей изменены. Содержит нецензурную брань единичными вкраплениями, так как из песни слов не выкинешь. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.