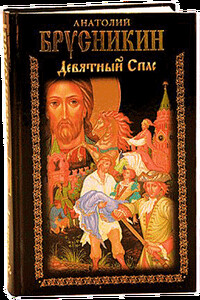Беллона - [58]
— Да-да, еще минутку.
Я вижу, что Платон Платонович хочет мне что-то сказать. Но капитана трогает за рукав Соловейко. Никогда и ни за что нижний чин, даже такой отчаянный, не позволил бы себе подобной вольности при свете дня. Однако ночь, опасность, все лежат, уткнувшись носом в пыль, — по уставу и не обратишься.
Слух у меня и вообще-то преотличный, а Соловейко шепчет громко, не старается щадить мои чувства.
— Ваше высокоблагородие, прощения просим, а только зря вы это…
— Что «зря»?
— Зря сопливого посылаете. Хлипкий он. Помните, как в Синопе-то?
Меня будто вдавливает в землю. Я знаю: Соловейко мне враг, он не забыл моего позора, а сейчас еще и ревнует — как это на лихое дело посылают не его, известного храбреца. На совете ведь он не был, про пещеру не знает.
Затаив дыхание, я жду, что Платон Платонович за меня заступится.
Но он лишь вздыхает:
— У самого сердце не на месте. Но никого другого нельзя.
И поворачивается ко мне.
Я еще надеюсь, не скажет ли он что-нибудь ободряющее: мол, не слушай дураков, Герасим Илюхин, ты герой и орел, бесценный сигнальщик и вообще наш спаситель.
Но Иноземцов шепчет:
— Еще раз повтори. Ну повтори.
И понимаю я: всяк смертный, хоть бы даже капитан фрегата и лучший человек на белом свете, думает только о своих переживаниях. Главное, сколько можно? Раз двадцать уже я ему слова Агриппины Львовны пересказывал!
Но я прощаю капитана. Потому что — как знать — свидимся ли еще в этой жизни. И, чтоб сделать ему удовольствие, повторяю в двадцать первый раз — с выражением, да еще с прибавкой: «Без Платон Платоныча, говорит, не уеду. Где он, говорит, там и я. Одной ниточкой мы теперь повязаны».
Ужасно он заволновался.
— Погоди, ты в прошлый раз про ниточку не говорил!
— Забыл. А теперь вспомнил.
— Эх ты! Разве можно такие вещи забывать?! — Иноземцов возмущен. Но прикрывает рукой глаза, мечтательно повторяет: «Одной ниточкой»…
А татарин, перегнувшись через меня, требовательно про свое:
— Господин капитан второго ранга, мы теряем время. Люди напряжены, у кого-нибудь не выдержат нервы, лязгнет чем-нибудь или стукнет, и нас обнаружат…
— С богом, — говорит тогда Иноземцов. — Вы уж, Девлет Ахмадович, поосторожней. Мальчика берегите.
На «мальчика» я, конечно, обиделся, но татарин тянет за руку: «Юнга, за мной!» — и мы ныряем в темноту вдвоем.
Первым, пригнувшись, крадется Аслан-Гирей. Он не в сапогах, а в чувяках — толстых кожаных чулках. Я, чтоб не шуметь, вовсе разулся. Поэтому мы семеним, мелко переступая, беззвучно, словно две тени.
Не видно ни зги. Через каждые десять или пятнадцать шагов Аслан-Гирей останавливается. Смотрит на компас, прикрыв его ладонью.
Я заглядываю через плечо с эполетом, вижу чуть колеблющуюся искорку — это светится покрашенная фосфором стрелка.
Мое сердце громко стучит, пахнет пылью и ковылем, саднит нога — я и не заметил, когда и обо что ее поцарапал.
Это ночь со второго на третье октября…
Мы со штабс-капитаном долго, целую вечность, добирались до рва. Последние сто шагов ползли на четвереньках, а потом и на брюхе. Мне это показалось лишним. Кто нас увидит, в такую-то темень? Но Аслан-Гирей молча ткнул меня носом в землю: ползи. И оказался прав.
Когда до бруствера оставалось совсем недалеко, я разглядел над темной полосой вала черное, вытянутое кверху пятно: то был часовой в своей турецкой шапке.
— Ближе нельзя, — в самое ухо выдохнул татарин. От него пахло душистым и, видно, дорогим табаком. — Вдруг задумается: что за цикада у меня под носом? Подавай сигнал отсюда.
Я пошарил рукой, нашел подходящую травинку. Надорвал посередке, приложил к губам, застрекотал.
В тиши треск мне показался оглушительным. Но дозорный не шелохнулся. А если б и посмотрел в нашу сторону, то на расстоянии в двадцать шагов ничего бы не углядел.
— Хватит!
Мы поползли дальше, теперь совсем медленно. Я следил, куда ставлю локоть, чтоб ничего не хрустнуло, не треснуло. Где-то на поле, точно так же, сейчас ползли наши охотники.
Вот мы и во рву. Он был сухой и не шибко глубокий, мельче нашего. Оно и понятно: французы готовились к нападению, не к обороне.
Скат бруствера вблизи оказался не особенно крутой. Вскарабкаться вполне можно — если, конечно, сверху не палят в упор и не колют штыками.
«Ждем», — показал жестом Аслан-Гирей.
Я прижался к земляной стенке, вслушиваясь в ночь.
Сам не знаю, почему мне не было страшно. То есть было, и даже очень сильно — но не за себя, а за наших. Это совсем другой страх, от него ноги не ватные, а наоборот: дергаешься, как на иголках. Я трясся от возбуждения и мысленно повторял: «Господи-Боже, пускай француз их еще минутку не замечает!»
Может, минуты две или три у Господа и выцыганил. Но потом Его терпение закончилось.
Где-то в ночи звякнул металл. Может, окованный приклад задел за камень.
И тут же вопль часового:
— Алярм! Озарм!
Аслан-Гирей с досадой шмякнул кулаком о землю.
— Ребята, вперед! — донесся слабый голос Иноземцова.
— Ура-а-а! — негусто подхватили охотники.
Во тьме понять было непросто, но, по-моему, до вала им оставалось еще порядком.
— Ура-а-а! — мощно закричали на отдалении. Это побежали догонять наши основные силы.

Действие нового романа А. Брусникина происходит на Кавказе во времена «Героя нашего времени» и «Кавказского пленника». Это географическое и литературное пространство, в котором все меняется и все остается неизменным: «Там за добро — добро, и кровь — за кровь, и ненависть безмерна, как любовь».
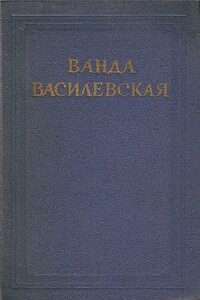
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга генерал-лейтенанта в отставке Бориса Тарасова поражает своей глубокой достоверностью. В 1941–1942 годах девятилетним ребенком он пережил блокаду Ленинграда. Во многом благодаря ему выжили его маленькие братья и беременная мать. Блокада глазами ребенка – наиболее проникновенные, трогающие за сердце страницы книги. Любовь к Родине, упорный труд, стойкость, мужество, взаимовыручка – вот что помогло выстоять ленинградцам в нечеловеческих условиях.В то же время автором, как профессиональным военным, сделан анализ событий, военных операций, что придает книге особенную глубину.2-е издание.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

От издателяАвтор известен читателям по книгам о летчиках «Крутой вираж», «Небо хранит тайну», «И небо — одно, и жизнь — одна» и другим.В новой книге писатель опять возвращается к незабываемым годам войны. Повесть «И снова взлет..» — это взволнованный рассказ о любви молодого летчика к небу и женщине, о его ратных делах.
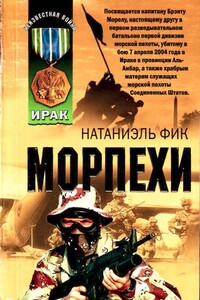
Эта автобиографическая книга написана человеком, который с юности мечтал стать морским пехотинцем, военнослужащим самого престижного рода войск США. Преодолев все трудности, он осуществил свою мечту, а потом в качестве командира взвода морской пехоты укреплял демократию в Афганистане, участвовал во вторжении в Ирак и свержении режима Саддама Хусейна. Он храбро воевал, сберег в боях всех своих подчиненных, дослужился до звания капитана и неожиданно для всех ушел в отставку, пораженный жестокостью современной войны и отдельными неприглядными сторонами армейской жизни.