Белая шляпа Бляйшица - [31]
Только когда я увидел это слово написанным, я осознал, из каких нежных звуков оно состоит.
Раз в два года с началом навигации, когда разросшиеся по берегам линейчатые горы бревен с адским грохотом обрушивались в реку, папа выписывал себе отпускные плюс морозные плюс буранные плюс отдаленные и, приглядев бревнище понадежнее, оседлывал его и пускался вскачь по порогам до самого Киева, о котором я только и знал, что туда доведет язык. Впрочем, нет, еще я знал, что Киев — самый красивый город в нашем государстве, а следовательно, и в мироздании, и что Москва и Ленинград совершенно впустую ведут борьбу за первое место — уже давным-давно занятое его настоящим хозяином. («Правильно», — и на этот раз одобрительно склонила подбородок Наталья Андреевна, чьи пращуры в царствование Александра-миротворца были высланы в наши края из Киевской губернии за участие в холерных волнениях.) И, разумеется, я знал, что в Киеве живет вечный папин друг дядя Сюня с его вечной тетей Клавой и — Женей[3].
Сюня, Клава, Клава, Сюня, дудел папа по возвращении вечную взрослую нудоту, но имя Жени он произносил, как-то по-особенному почтительно понижая голос, чего он никогда не делал, если даже речь заходила о начальстве — вернее, о начальстве тем более (хотя и пренебрежительно о леспромхозовских боссах от тоже не отзывался, полагая, что это отдает лакейской). И я каждый раз в каком-то смутном беспокойстве отправлялся бродить по пружинящим опилкам, зачарованно повторяя одним языком: Женя, Женя, Женя, Женя…
Циркулярки заходились истерическим воем, а мой язык все выговаривал и выговаривал ее беззвучное имя. Страшно подумать, какой позор бы меня ожидал, если бы кто-то мог меня подслушать. Девчачий пастух — ни одна нашлепка не пришлепывалась со сплевыванием столь презрительным. Не понимаю даже, ради чего нужно было это дело столько веков так усердно оплевывать… Чтобы сделать его хоть чуточку менее соблазнительным, так что ли? Что ж, тогда хвала плевкам: именно они произвели на свет истинную — платоническую любовь! Ибо понадобилась греза неимоверной мощи, чтобы воспарить и одолеть заплеванные пространства.
Впервые я увидел Женю, когда уже был мальчишкой, воображающим, что он уже не мальчишка. Она оказалась до оторопи конкретной. Мне грезилось что-то серебристо-воздушное с распущенными голубыми волосами, а у нее оказался чеканный орлиный профилек, как у Досхоевой, и гофрированные черные волосы, сверкающие, словно надраенные хромовые сапоги. Брови же ее в первый миг буквально обтянули меня гусиной кожей — они показались мне двумя черными гусеницами. Но, к счастью, я об этом тут же забыл.
Сквозь восторженный чад, в котором я тогда плыл, не могу теперь разглядеть ни тогдашнего дядю Сюню, ни тогдашнюю тетю Клаву, ни тогдашнего Города, каким я его впоследствии увидел сквозь булгаковскую грезу. Подручные типовые грезки у меня сыскались только для тети Клавы — «статная русская красавица» — и для сталинского Хрещатика — «получше Москвы». (Хотя в Москве в то время я еще не бывал: папа считал, что не надо протискиваться туда, где тебя не хотят видеть, нужно обживать собственный угол. А также не нужно никуда стремиться только потому, что туда стремятся все; поэтому у нас была и своя Швейцария, и своя Ривьера, и свой сибирский Париж. Насмешила меня средь имперских пышностей только вывеска «Речи напрокат», — я решил, что это для ораторов, а оказалось, речи были просто вещи. Я еще не понимал всей глубины этого сближения (слова — главные вещи), тем более что украинский язык самим провидением был предназначен для потехи; даже у нас в леспромхозе было известно, что «самопер попер до мордописца» означает «автомобиль поехал к фотографу».)
Но для дяди Сюни в моем арсенальчике никаких приятных слов не сыскалось. «Юморной» — нет, здесь дело было явно позаковыристей. «Добряк» — тоже не то чтобы, люди в его байках отнюдь не выглядели ангелами. Но — он умел посмеиваться там, где папа откровенно расстраивался, а я лез на стену. Поэтому перед Женей я только хорохорился, а обольстить старался именно его. Сначала, впрочем, я и перед ним попробовал поерепениться — стоя над зелеными днепровскими кручами, удивительно кучерявыми после наших стрельчатых таежных безбрежий, я преувеличенно возмущался недостаточной шириной Днепра: редкая-де птица долетит до середины его — да любой воробей, любая ворона… «При всем желании не могу сделать его шире», — со сдержанной улыбкой сказал дядя Сюня, и я озадаченно смолк. Ирония — эта в еврейских кругах отнюдь не редкая птица никогда не долетала до нашего леспромхоза. И уж так меня пленил ее остренький клювик под невинным оперением: и отбрил, и обошелся без хамства!.. Которое уже тогда в моих глазах утрачивало последние остатки поэзии.
Папа хамства тоже никогда не допускал, но дядя Сюня показался мне куда завлекательнее. Папа, как я теперь догадываюсь, старался быть всего лишь таежным джентльменом, а вот дядя Сюня — мудрецом. Да не простым, а еврейским — «что вы хотите — это так по-человечески», «так что же — прикажете плакать?»… Если папина подтянутость отзывалась словом «выправка», то за дядисюниным безразличием ко всяческой бравости таилась какая-то новая красота. Я млел от восхищения, когда дядя Сюня, воротясь от портного, сообщал, что талия у него оказалась под мышками. И я хохотал даже еще чуточку более восторженно и беззаботно, чем мне хотелось, когда в музее захидного та ехидного мистецтва дядя Сюня показывал на китайского божка довольства — колотящего в бубен брюха жизнерадостного лакированного прищуренного толстяка: «Это я».
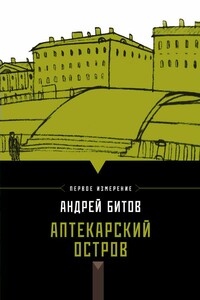
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
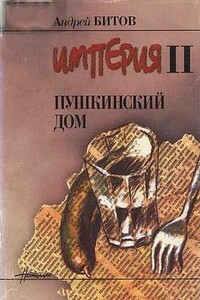
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
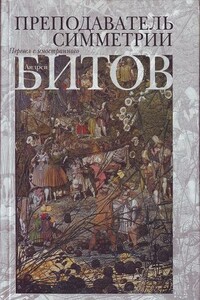
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.
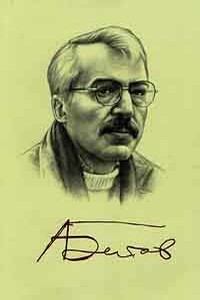
В книгу включены повести разных лет, связанные размышлениями о роли человека в круге бытия, о постижении смысла жизни, творчества, самого себя.

В эту книгу входят два произведения Ильи Эренбурга: книга остроумных занимательных новелл "Тринадцать трубок" (полностью не печатавшаяся с 1928 по 2001 годы), и сатирический роман "Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца" (1927), широко известный во многих странах мира, но в СССР запрещенный (его издали впервые лишь в 1989 году). Содержание: Тринадцать трубок Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эту книгу можно использовать как путеводитель: Д. Бавильский детально описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, которые он посетил осенью 2017 года. Однако во всем остальном он словно бы специально устроил текст таким намеренно экспериментальным способом, чтобы сесть мимо всех жанровых стульев. «Желание быть городом» – дневник конкретной поездки и вместе с тем рассказ о произведениях искусства, которых автор не видел. Таким образом документ превращается в художественное произведение с элементами вымысла, в документальный роман и автофикшен, когда знаменитые картины и фрески из истории визуальности – рама и повод поговорить о насущном.
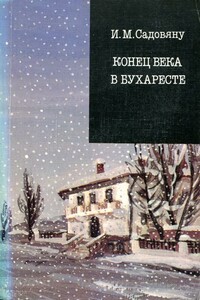
Роман «Конец века в Бухаресте» румынского писателя и общественного деятеля Иона Марина Садовяну (1893—1964), мастера социально-психологической прозы, повествует о жизни румынского общества в последнем десятилетии XIX века.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.

Этот сборник составлен из историй, присланных на конкурс «О любви…» в рамках проекта «Народная книга». Мы предложили поделиться воспоминаниями об этом чувстве в самом широком его понимании. Лучшие истории мы публикуем в настоящем издании.Также в книгу вошли рассказы о любви известных писателей, таких как Марина Степнова, Майя Кучерская, Наринэ Абгарян и др.
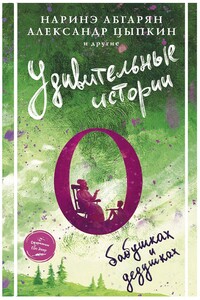
Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно — все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное — о любимых. О том, как признаются в любви при помощи классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. Удивительные истории.

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!