Белая шляпа Бляйшица - [30]
Так вот, мы с Танькой забрались в его тарантас и даже затянулись клеенчатым фартуком. Зачем-то. Чтобы оказаться еще больше вдвоем. Тарантасный мрак, почему-то источающий пронзительный запах отсутствовавшей в тот момент кобылы, со всех сторон светился щелями и дырками, и я окончательно ошалел, когда Танька жарко продышала мне в ухо: «Давай е…ся!» «Ты с ума сошла!» — ошеломленно прошептал я и выбрался наружу. Убрался подальше.
При свете дня я немедленно понял, что ничего этого не было и быть не могло, девочка, даже такая свойская, как Танька, не могла сделать столь ужасное предложение и даже просто произнести столь ужасное слово, — к тому же ничего и не означающее: люди не могут заниматься такой бессмысленной гадостью, какую им приписывают разные мерзкие выдумщики. И все равно сделалось как-то небывало грустно — как будто нам приоткрыли что-то хорошее-хорошее, а мы его испортили. Я долго бродил за лесопилкой, пружиня по спрессованным опилкам, и сквозь вой циркулярок безнадежно мычал разные грустные песни, слов которых по причине застарелой сифилитичности всех наших репродукторов я, на свое счастье, до конца пока еще не знал.
Однако в ближайшие дни меня поджидал новый удар. Более всего из всех моих полумычаний-полубормотаний меня трогала (наворачивались слезы, чего я тогда по угодничеству перед низким очень стыдился) простенькая песенка, в которой в конце каждого куплета повторялся грустный вопрос: веришь, не веришь? Поезд на-на-на дымок (или гудок?), в дальние скрылся края, лишь на-на-на огонек, словно улыбка твоя. Как тянулась душа к той неведомой красоте, что открывалась за неведомо чьей улыбкой, мелькнувшей, словно огонек поезда, — тем более что и поезд для меня был предметом нездешним, до нас они не добирались.
И вдруг в «Книжном» я увидел песенник! Папа пожал плечами, но все-таки вынул из хромового бумажника рубль тридцать, — какая-никакая это была, однако, духовная потребность. Не разбирая дороги, я разыскал в книге волшебную песенку — и уж так в ней оказалось все просто и ясно!..
Так просто и ясно — и так убого…
Без поэзии нет жизни, без тайны нет поэзии. Если в песне ясно, про что она, то к чему она? Если в грезе ясно, зачем она, то зачем она? Если греза служит реальности — высшее служит низшему, — она уже не греза. А пропаганда. Марксизм был гениальнейшим мошенничеством всех времен и народов: он преподнес миру сказку под маской науки — вместо огненных глаз и громовых речей пророк облачился в личину ученого зануды и тем победил.
А обтекаемый голубенький ромбик с обрезком «гра» на жестяном обороте прозрачной упаковки так и валяется в моем столе без употребления: мне уже давно ничего такого не хочется. И химические друзья всех «влюбленных» лишь помогли мне осознать это.
Теперь мне уже кажется, что я чуть ли не всю жизнь занимался этим делом из одной только жалости. Когда — гром среди ясного неба — внезапно умерла Танькина мать, я с другими соседями, обмирая, тоже проник в Танькину халупу, которая в ту пору представлялась мне внушительным щитовым сооружением (вагонка вместо горбыля!), и обомлел перед невероятной пышностью поставленного на табуретки гроба: не знаю почему (такой бесполезности, как цветы, у нас в леспромхозе было днем с огнем не сыскать), но гроб напомнил мне ту единственную в моей жизни клумбу, которую я предыдущим летом видел перед величественными колоннами райкома, когда мне удалось упросить папу прихватить и меня в райцентр на попутном дирижабле. Вокруг клумбы сидело несколько человек, но мне бросилась в глаза только Танька.
Она цепенела с совершенно круглыми от ужаса глазами, как бы наготове держа за уголок совершенно нетронутый, отглаженный носовой платок, — и я словно ошпаренный вылетел вон.
С тех пор она проходила мимо с таким раз и навсегда оцепенелым лицом, что я никак не мог решиться сказать ей что-нибудь до боли нежное и проникновенное. А вскоре она и вовсе исчезла неведомо куда вместе со своим печальным двугорбым отцом и нашим мимолетным гнездышком — тарантасом. И мы с пацанами так ни разу и не решились забраться в их заколоченный щитовой домишко.
А потом и его замело опилками.
«Веришь, не веришь? Стало в поселке темней», — безнадежно звучал у меня в ушах мой прекрасный внутренний голос.
Который, конечно же, никогда не имел в виду никакую реальную Таньку, он всегда пел о какой-то грезе.
И мне так и не удалось сказать моей перепуганной подружке: прости, что я тебя оттолкнул, я был неправ — давай е…ся!
Зато сколько раз я потом произносил эти слова — разумеется, другими словами, а то и вовсе без слов, — в конце концов, человек, по общему и даже по моему собственному мнению, довольно порядочный, я сделался каким-то тривиальным донжуаном.
Служителем чужих фантазий.
А собственной грезе я служил только однажды. Да и что это была за служба — так, вздор… Впрочем, что я говорю, — греза не бывает вздором. Вздором бывают лишь попытки ее развенчать.
Греза носила имя Женя. И если слово «женственность» я до сих пор ощущаю поэтическим, то исключительно потому, что в нем все еще звучит ее имя. Я когда-то сразу понял, откуда истекает целительная сила корня женьшень — ведь в нем столько Жень! Да что — Жене удалось смягчить даже грубое слово «жена». Когда чуть ли не на самом первом уроке учительница первая моя торжественно спросила: «А вы знаете, кем приходится Владимиру Ильичу Ленину Надежда Константиновна Крупская?» — я, внутри своей грезы звонкий первый ученик, немедленно оттарабанил: «Она его сестра». И я прямо вздрогнул, когда ссыльная чеченка Досхоева, уже успевшая заполучить прозвище, как вы, конечно, догадались, Доска, хрипло меня поправила: «Она его жена». Хотя мои тогдашние представления о супружеских отношениях были самые поверхностные, я все-таки прекрасно понимал, что жена — это что-то из области подштанников, в Кремле таким не место. И каково же было мое ошеломление, когда в ответ на святотатство Наталья Андреевна одобрительно склонила голову: «Правильно».
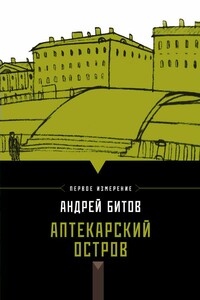
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
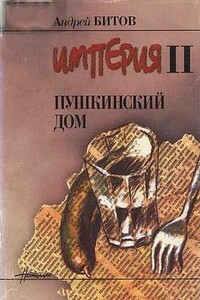
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
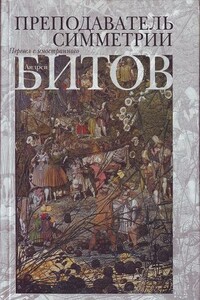
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.
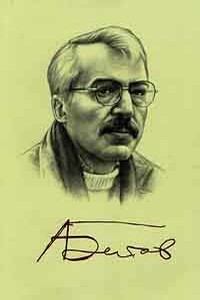
В книгу включены повести разных лет, связанные размышлениями о роли человека в круге бытия, о постижении смысла жизни, творчества, самого себя.

В эту книгу входят два произведения Ильи Эренбурга: книга остроумных занимательных новелл "Тринадцать трубок" (полностью не печатавшаяся с 1928 по 2001 годы), и сатирический роман "Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца" (1927), широко известный во многих странах мира, но в СССР запрещенный (его издали впервые лишь в 1989 году). Содержание: Тринадцать трубок Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эту книгу можно использовать как путеводитель: Д. Бавильский детально описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, которые он посетил осенью 2017 года. Однако во всем остальном он словно бы специально устроил текст таким намеренно экспериментальным способом, чтобы сесть мимо всех жанровых стульев. «Желание быть городом» – дневник конкретной поездки и вместе с тем рассказ о произведениях искусства, которых автор не видел. Таким образом документ превращается в художественное произведение с элементами вымысла, в документальный роман и автофикшен, когда знаменитые картины и фрески из истории визуальности – рама и повод поговорить о насущном.
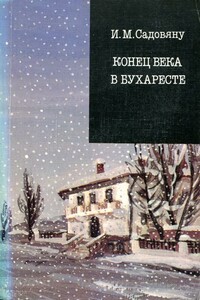
Роман «Конец века в Бухаресте» румынского писателя и общественного деятеля Иона Марина Садовяну (1893—1964), мастера социально-психологической прозы, повествует о жизни румынского общества в последнем десятилетии XIX века.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.

Этот сборник составлен из историй, присланных на конкурс «О любви…» в рамках проекта «Народная книга». Мы предложили поделиться воспоминаниями об этом чувстве в самом широком его понимании. Лучшие истории мы публикуем в настоящем издании.Также в книгу вошли рассказы о любви известных писателей, таких как Марина Степнова, Майя Кучерская, Наринэ Абгарян и др.
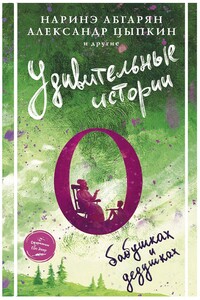
Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно — все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное — о любимых. О том, как признаются в любви при помощи классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. Удивительные истории.

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!