Бедная любовь Мусоргского - [2]
- Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его "Своеобразные танцы", не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки... И потом, видите ли, я сам...
Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:
- Я тоже пишу музыку.
Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:
- Вот случай, какое совпадение... Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик...
- Пожалуйста, пожалуйста, - лекарь весело закивал головой.
- Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке, гонимо, смешно ... Кому у нас надобна музыка... У нас музыка только барская блажь ... Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу...
После нечаянного взаимного признания, молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, - как два заговорщика, - понимающие все с полуслова.
Не особенно хорошо слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его "Немецких танцах", какие недавно оба читали. Потом о "Рождественских рассказах" Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель": они поспорили о Бетховене, не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.
Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым сияла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умалишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусоргский, что все их слова были невнятны и они сами не понимали ясно, что именно говорят. В путаной, горячей речи, они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще брезжило в них, какое еще будет когда-нибудь, или не будет вовсе.
Лицо Мусоргского горело. Бородин иногда смеялся нервным смешком, с прозрачным, прохладным звуком.
Мусоргский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком.
- Посмотрите, какая ночь, - в мгновение молчания сказал Бородин. - Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по моему, такие ночи... Какое морозное величие, бесконечное холодное сияние, и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений...
Они умолкли.
За госпитальным двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег. Как будто в звучащей немоте застыла колоннада, фронтон, а дальше, над белым океаном крыш, где бродил дым стужи, страшно и тайно сияло зеленоватое ледяное небо.
- Замечательно, - сказал Мусоргский. - Вот ночь. Вся звучит. О чем же, о чем, непонятный язык этой обмерзшей немоты, величия?
- Не знаю, но тоже слышу, - прошептал Бородин. - И, кажется, вот, вот догадаюсь о чем... Никогда и никому не догадаться... Это и есть музыка.
- Музыка? Я, доктор, во всем, всегда, слышу музыку, и мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное... И в этой ночи и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате, умирающий солдат стонет, все это, весь мир, люди, все живое и мертвое, одна музыка... И если бы узнать ее тайное значение ...
- Зачем знать, все прекрасно и так... Однако, какой у вас приподнятый поэтический тон.
Маленький медик позвенел серебряной цепочкой часов, щелкнул крышкой:
- Вот, видите, вашей тирадой о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Мне пора на ночной обход.
- Я с вами ...
Мусоргский с пылающим лицом, желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам.
- Извольте, пойдем, сначала к горячечным, потом к венерикам, - ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука.
Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены поверху были выбелены, а понизу закрашены серой краской. Стекла окон внизу тоже были забелены.
В палатах, где на железных койках, под темными одеялами, лежали люди, было только два угрюмых цвета, темно-серый и белесоватый, точно они были цветами самой смерти.
В той палате, куда вошел с медиком Мусоргский, в углу, была растоплена громадная кафельная печь, на железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. В палате, в духоте, пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа, над столом, фонарь, тоже разогретый, душный.
Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщовыми простынями. Они показались Мусоргскому покойниками: они спали. У других были развязаны на груди тесемки солдатских посконных рубах, они быстро стонали, бредили.
Мусоргский невольно остановился у койки рослого солдата. Его исхудавшие, большие, темные руки лежали на белой простыне, запавшие глаза были крепко зажаты. Это был костлявый пожилой солдат с лысеющим лбом, красивый, горбоносый, похожий на императора Николая Павловича. Пожилой солдат твердил, не умолкая, затаенно, с мягкой укоризной:
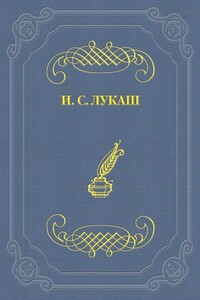
«…– Ничто тебя да не смутит, ничто тебя да не остановит, ничто тебя да не устрашит – сам Господь с тобой.Такие слова Терезы Авильской вырезаны на ее статуе.Это – одна из самых вдохновенных скульптур Беклемишевой…».

«…Казацкая грамота «Роспись об Азовском осадном сидении донских казаков», привезенная на Москву царю Михаилу Федоровичу азовским атаманом Наумом Васильевым, это трехсотлетнее казацкое письмо, по совершенной простоте и силе едва ли не равное «Слову о полку Игореве», – страшно, с потрясающей живостью, приближает к нам ту Россию воли, крови и долга, какой мы разучились внимать.Торопливо, хотя бы кусками, я постараюсь пересказать это казачье письмо…».
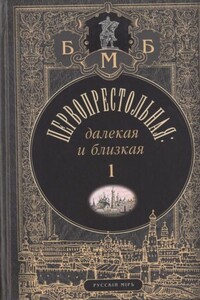
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
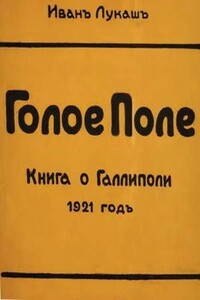
Первооткрывателем темы Галлиполи в русской литературе был Иван Созонтович Лукаш, написавший летом 1921 года документальную повесть «Голое поле» с подзаголовком (Книга о Галлиполи), которая год спустя была опубликована печатницей (издательством) «Балкан» в Софии и в России не переиздавалась. Галлиполийское сидение (Русская Армия в Галлиполи, галлиполийцы) - период продолжения существования регулярных частей Русской Армии генерала барона П. Н. Врангеля (преимущественно 1-го Армейского корпуса генерала Кутепова) после эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г., рассредоточенных в районе греческого (на то время) города Галлиполи (турецкое название города — Гелиболу), расположенного на берегу пролива Дарданеллы, и сохранявших боеспособность до мая 1923 г.
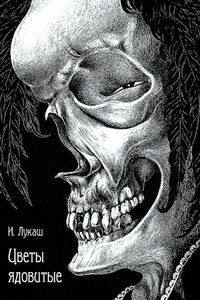
И. С. Лукаш (1892–1940) известен как видный прозаик эмиграции, автор исторических и биографических романов и рассказов. Менее известно то, что Лукаш начинал свою литературную карьеру как эгофутурист, создатель миниатюр и стихотворений в прозе, насыщенных фантастическими и макабрическими образами вампиров, зловещих старух, оживающих мертвецов, рушащихся городов будущего, смерти и тления. В настоящей книге впервые собраны произведения эгофутуристического периода творчества И. Лукаша, включая полностью воспроизведенный сборник «Цветы ядовитые» (1910).
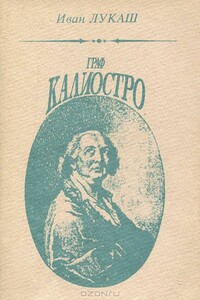
Повесть о философском камне, госпоже из дорожного сундука, великих розенкрейцерах, волшебном золоте, московском бакалавре и о прочих чудесных и славных приключениях, бывших в Санкт-Петербурге в 1782 году.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.