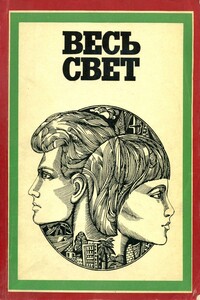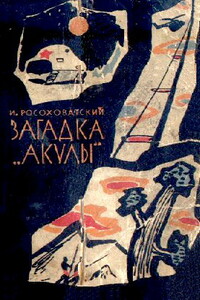— Забавный вы субъект! Забавный субъект. И ваш рассказ о состоянии затмения памяти очень поучителен… Любой внутренний хаос гораздо более упорядочен, чем наш хаос, внешний. И чем шире это внешнее по цепочке — личность, семья, политическая партия, многопартийное государство — тем сильнее хаос… И здесь нужен принцип, сводящий в космос хаос личных свобод, не ограниченных культурным зеркалом. Мы свободны, когда отвыкаем в себя вглядываться. А сколько мы понаставили кривых зеркал! Если вглядеться в оставленные нам культурные вехи, то и среди них не просто отделить путеводные от лукавых… И еще надо ухитряться не проваливаться в зазеркалье… А сейчас процветает искусство, построенное на эстетике хаоса, на соединении нелепого с еще более нелепым, и это дает поистине блестящие результаты…
— Блеск упаковок на свалке после выеденного традиционного содержимого?
— Нет, вы всмотритесь пристальнее в причудливое искусство видеоклипа, все это наиболее соответствует мировосприятию, отрекшемуся от Слова, в вашем обмороке это все ясно показано. Так кино сочиняет хаос истории, угодный творцам исторической справедливости, это очевидно, к сожалению, и мои предки приложили к этому руку, не я один… Я кивал в знак согласия: — На себя вы, я думаю, наговариваете, ваши роли исключительно благородны, а Стеньке Разину было не до искусства кино…
— Э, мне тут не до шуток, ведь мой папа, который мне фамилию дал, был помощником режиссера у самого Эйзенштейна, вместе с ним Зимний штурмовал, этот штурм для нас придумал, а дворец при этом попортили изрядно. Помощник режиссера, сокращенно — помреж, отсюда фамилия — Помрежченский, затем произошла редукция с ассимиляцией, и в паспортном столе записали — Померещенский!
— Не может быть!
— В нашем паспортном столе все может быть. Хотя есть и еще одна версия. Предки имели поместья как дворяне, отсюда возможна фамилия — Помещенский. Потом произошла революция и мой предок вставил из революции первый слог внутрь своей фамилии.
— Почему же слог ре, а не, скажем, — во?
— Предок был музыкант и очень любил ноту ре, особенно ре-мажор. К тому же, смею вас заверить, Р — резко, решительно, ревностно относится к труду, Р — демократично, с него началась речь, ибо Р может произнести даже собака: РРР!
Я стал возражать Померещенскому: — А мне сдается, что Р — редко, робко, дрожит над рублем, Р — реакционно, репрессивно и преждевременно, из чрева Р журчит вечно речь рабов: РРР!
— Ишь как он заговорил! Р — это распределение кривизны мира по ранжиру геометрии Римана! Р — ребро времени, из которого происходит безразмерная вечность! Р режет вам правду-матку в глаза!
— Уж если Р такое острое, как топор, секира, резец, то еще острее — Ф! Ф — это обоюдоострое Р!
— Ф? Фи! Ф — это двуликий Янус, фокусник, франт и фантом! Кофта, фата, туфта, нафталиновый фатализм, офонаревший от фраз фанатиков! Фигня и фата-моргана! Физкультура во фраке!
— Фантастика, футурология, футуризм!
— А вот фантастику, поэзию и науку не надо трогать! — поэт неожиданно обиделся. Я пошел на попятную:
— Я и не трогаю. Я разделяю вашу любовь к ученым, фантастам и поэтам!
— Поэтам?! — поэт, казалось, еще больше обиделся.
— Поэтам, — к вам в частности. В особенности, — поправил я положение.
— Где вы вообще видели поэтов? У нас, в прогнившем Датском королевстве! Одни эпигоны — пушкинята, фофанята и блокнята! Сброд! А фантазии никакой, ни у поэтов, ни у фантастов.
На шум вышла белокурая Сальха и, сложив на груди руки, голубыми глазами с укоризной уставилась в какую-то точку, находящуюся между головой поэта и моей. Я встал и был уже готов откланяться, но поэт положил мне на плечо шелковую руку и подвел меня к окну, из которого открывался вид на звездное небо: — Вот единственная настоящая поэзия! Наш век не дает нам достаточно времени проследить за эволюцией мироздания, но мы в состоянии зафиксировать эволюцию нашего взгляда. Вот это я совсем еще зеленый:
Кто-то лунное сомбреро
отряхнул от книжной пыли,
и к оконцу атмосферы
звезды тонкие пристыли… —
а теперь сделаем шаг в сторону изучения конкретных наук и добавим еще немного жизненного опыта — получим мое первое пребывание еще на нашем юге:
Здесь, как на ладони, космос,
и небо — анастигмат!
Царапают звезды его плоскость
на мотоциклах цикад…
Он задумался, а мне пришло в голову только это: — Да, поэзия — вся езда в незнаемое…
— Конечно, езда, — подхватил поэт, — а какой русский не любит быстрой езды? Вы, кстати, на чем домой поедете? У вас машина?
— Я — на метро, — сообразил я, и подумал, хорош бы я был, если бы мне пришлось вести машину. Я стал искать взглядом шляпу, хотя пришел без шляпы, да вообще никогда не носил шляп.
— Успеете на метро, — сказал поэт. — Рад был познакомиться, да, а зачем вы приходили? Ну, разберемся в другой раз, — закончил он, окончательно заметив неподвижную блондинку Сальху.
— А что вы будете делать с чемоданами? — едва не споткнувшись об них спросил я при выходе.
— Сальха расшифрует и все войдет в том, который будет следовать за воспоминаниями моих жен обо мне. Дать вам что-нибудь почитать на дорогу? Вот номерок нового журнала с началом моей приключенческой повести, сочиненной в соответствии с духом времени. И будьте осторожны, вы спускаетесь в город, в это «безрадостное место, где убийство, и злоба, и толпы иных злых божеств, изнурительные недуги, и тлен, и плоды разложения скитаются по ниве несчастья»!