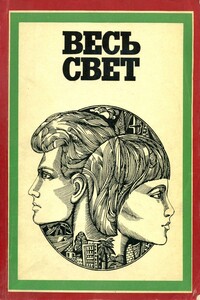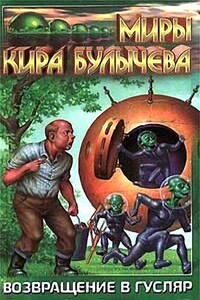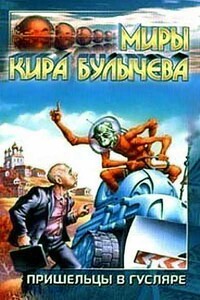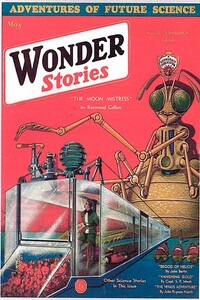— Добрый день! — сказали они по-голландски.
— Добрый день! — по-голландски ответствовал я.
— Мы, кажется, не ошиблись, — продолжали девушки: — Вы как-то по-русски произносите «Добрый день!»
— Вы не ошиблись, — подтвердил я, не меняя акцента.
— Так Вы — Померещенский! — воскликнули обе на своем безукоризненном языке.
— А как Вы меня узнали? — из вежливости поинтересовался я.
Они переглянулись, и одна из них смущенно призналась:
— Сейчас, хоть и середина октября, но все пассажиры в шортах, а Вы один в меховой шапке и в смокинге…
Я рассмеялся и снял шапку:
— Извините, я так загляделся на волны, в глазах моих рябит, я забыл, что беседую с дамами…
И тут милые дамы поведали мне, что давно меня ищут, что на «Аполлоне» плыл недавно тоже, кажется, русский, ничем не примечательный и не говорящий по-голландски, да и по-гречески тоже, он сошел на берег в порту Тера, сел на осла и с тех пор его не видели, на «Аполлон» он не вернулся. Однако после него на борту была обнаружена рукопись, в которой по-русски из всех слов поняли только одно — мою фамилию, из чего и заключили, что написано по-русски. Рукопись решили торжественно вручить мне.
В порту Тера я тоже сел на осла, чтобы подняться по зигзагообразному пути в город, который издали с моря казался белесой порослью грибов. При ближайшем рассмотрении я задумался, строились ли тамошние белые церковки по образцу русских печей, или печи в наших деревеньках воздвигались по подобию этих милых греческих святилищ? На осле я и вернулся на «Аполлон», который, как оказалось, построен был в Японии. Я задумался о Японии, горе Фудзи и компьютерах, и так и не ознакомился с рукописью в полном ее объеме. Но я считаю себя не вправе скрывать от общества любые обо мне свидетельства, пусть даже самые вздорные. Естественно, я не несу ответственность за уровень художественности этого очевидного вымысла и надеюсь, что никто не отважится принять свидетельства автора за достоверные, я во всяком случае не припомню встреч с таким человеком, возможно также, что он не показался мне настолько значительным, чтобы запечатлеться в моей избирательной памяти. Сопровождая это сообщение в печать, я оставлю все высказывания заблудившегося на осле автора на его совести, и полагаю, что, если у него есть совесть (не у осла, а у автора), то он обязательно отыщется и больше не будет терять свои рукописи.
Проф. др. Померещенский
Кижи — Ретимнон — Гераклион — Франкфурт-на-Майне — Лас Палмас — Кунцево — Эдинбург — Кострома — Переделкино.
— Нет такого человека в природе, — зло сказал поэт Подстаканников, когда в телевизионном интервью его спросили, что он думает о Померещенском.
— А если есть, — дополнил он, — то их по крайней мере двое!
Я долго не мог забыть эту таинственную фразу, прерванную, к сожалению, рекламой французского супа из крапивы. Чем дальше я удаляюсь по времени от своей замечательной встречи с Померещенским, тем больше событий оживает в моей памяти, которая несколько пострадала при свидании с великой личностью. Я еще спросил тогда: — А как Вы относитесь к творчеству Вашего знаменитого коллеги Подстаканникова? — Какой он мне коллега, — откликнулась личность. — «Под» стал знаменитым, написав многим настоящим, так сказать, знаменитостям письма, а потом опубликовав их. Мне он тоже писал. Но я ответил ему так, что он постеснялся включать мой ответ в свои сочинения. Я написал ему следующее:
Дорогой Митрий Комиссарович!
Я получил Ваше нелюбезное письмо. Я его не читал, но оно мне понравилось. Вы хорошо пишете письма, но я пишу лучше. Лучше я напишу еще одно письмо, чем прочитаю Ваше. Вы приложили к письму Ваши многочисленные стихи. Я их не читал, но они мне понравились. Так как я все равно пишу стихи лучше Ваших, а главное короче, я лучше напишу несколько своих коротких, чем прочитаю одно Ваше.
Пишите еще.
Ваш канд. наук Померещенский.
— Как! — воскликнул я, — почему же кандидат, Вы же доктор! — Я тогда был еще кандидат, — скромно ответил доктор. — Доктором я стал позже, когда написал докторскую диссертацию о творчестве Митрия Комиссаровича, я и защитил ее от тех, кто, так сказать, ничего не слышал об этом творчестве и готов был подвергнуть его нападкам. Я там написал, что Митрий Комиссарович станет особенно популярным за полярным кругом. Почему за полярным, спросите вы. Потому, что понадобится целый полярный день, чтобы ознакомиться с подобным творчеством, а потом понадобится целая полярная ночь, чтобы отойти от мук сопереживания с этим, так сказать, творчеством.
— Диссертацию Вы защищали тоже за полярным кругом? — спросил я, а может быть, мне только сейчас кажется, что я спросил, но он тогда определенно ответил:
— Я бывал неоднократно за полярным кругом, как за северным, так и за южным, чтобы прочитать оттуда свежие стихи тем, кто будет смотреть на меня через телевидение, находясь, в отличие от меня, в тепличных, а не в экстремальных условиях. Меня везли туда на самолете, потом на санках, причем санки тоже везли мои читатели, а не собаки, так как собакам не нравилась моя шапка. Хотя некоторые породы собак — благодарные слушатели… Да, хороший был народ, комсомольцы, энтузиасты, романтики, диссиденты… А диссертацию я писал в одном из университетов Калифорнии, так как в Московском университете только удивились и сказали, что слыхом не слыхивали ни о каком Подстаканникове. Сейчас их интересуют, так сказать, другие темы, например, «Странствия Одиссея и пути первой русской эмиграции», или «Странствия Гулливера и пути третьей русской волны»…