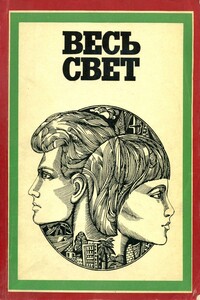Итак, начал Померещенский, хотя было заметно, что лихорадка его основательно трясла, итак, не помню сколько нас тогда было, молодых, кто из города, кто из деревни, а кто и Бог знает откуда, приехали мы к даче поэта, дали знать о себе, разложили костер, печем картошку, ждем. Рапануйкин тогда разводил на даче верблюдов, он, говорили, владел секретом превращения их в Пегасов. Ходили слухи, что сначала надо их превратить в кентавров, тогда у них вырастают руки и им тут же подсовывают пишущую машинку ундервуд, они начинают печатать, отчего к ним приходит вдохновение, и крылья, заложенные в горбах, начинают расправляться. Ну, мы, значит, испекли картошку, съели, подремали у костра, а под утро к нам вышли и объявили, что те, которые из деревни, пусть проваливают в деревню, а те, которые из города, пусть проваливают к себе в город. И пошли мы вдоль забора под солнцем родины, и вдруг видим, с той стороны забора едет голова поэта, в чалме, а когда он подпрыгивал, видимо, на верблюде, показывались еще эполеты, а в руке он вздымал копье, мы как увидели, так и бросились бежать, он же нам вослед что-то кричал на новаторском языке, кто-то смекнул на бегу — глоссолалия. А когда отбежали на безопасное расстояние, оглянулись, видим, он через забор кричит — вот как писать надо, потом плюнул через забор, не то сам, не то его верблюд, и под конец еще сделал вот так: и поэт Померещенский показал, как. Показались в дверях укоризненные фигуры людей в халатах, Померещенский беспомощно развел руками и двинулся на выход под несмолкаемые аплодисменты, воспользовавшись которыми он мало кому слышно бросил Мопсову: Прощай, Дерьмопсов! Тут я и попытался перехватить его, бормоча что-то о письме по поводу переводов на цейлонский. Он на секунду замер, потом великодушно выдохнул: позвоните… а если не будут подзывать, скажите, что из посольства… да все равно, из какого… скажите, из новогвинейского.
Как только стало известно, что П. поправился, я позвонил и сказал, что из посольства, женский голос был недоверчив, но я добавил, что из новозеландского, не знаю, почему, но скоро подозвали самого. Да-да, я помню, отозвался П. — я ваше письмо включил в свой том писем, к сожалению, не успев прочитать. Но мне приятно иметь дело с переводчиком, поэтов, честно говоря, терпеть не могу. Так. Послезавтра я улетаю в Гонконг на семинар — поэты против гриппа. Завтра… Завтра с утра я жду телевидение… Пока привезут аппаратуру, свет, все это расставят… Я бы отказался да уж неудобно, и тема мной предложена — поэзия и парашютный спорт. Потом спецрейсом прибудет японская делегация. Чайная церемония, сами понимаете… Я не знаю японского, они не знают русского, наше взаимное молчание может продлиться бесконечно долго… Во второй половине дня художник пишет мой портрет, тоже нельзя отказать, художник специально приехал с Мадагаскара, да я и мадагаскарского языка не знаю, чтобы попросить его сократить сеанс. А вечером… вечером давно набивался агент какой-то секретной службы по важному делу, не знаю уж какой, нашей или иностранной. М-да. Знаешь что? Приходи в шесть утра!
* * *
Ровно в шесть я позвонил в желанную дверь. Сбоку заверещал какой-то прибор, и я догадался вдунуть в него свою фамилию. Дверь автоматически отворилась, и я оказался в коридоре еще перед одной дверью, сбоку виднелась некая амбразура, в которую водвинулось лицо крупного писателя, кисло улыбнулось, и меня впустили в квартиру. Поэт был в спортивном костюме цвета обложки своих сочинений, босиком, а на руках боксерские перчатки. Делаю утреннюю разминку, деловито произнес поэт и запрыгал вокруг меня, цитируя при этом самого себя:
Бой с тенью —
бой с теми,
с кем я
не схожусь в теме!
Бой с тенью —
веду везде я,
где в забвенье
моя идея!
Бой с тенью —
бой с теми,
кто размышленьем
не тешит темя! —
и так далее, дальше я не запомнил, из подобострастия я тоже запрыгал, защищаясь и радуясь, что поэт не бьет по-настоящему, мне при этом очень мешала отставшая подошва моего левого ботинка. Наконец, хозяин запыхался и перестал боксировать и цитировать. Сильные стихи? — спросил он гордо, снимая перчатки. Сильные, сильные, — подтвердил я: ваши? Мои, ранние, когда я еще был мухой, писал, доверительно сообщил поэт.
— Мухой? — удивился я.
— Когда я еще боксировал в весе мухи. Я нарочно пошел заниматься именно боксом. Я считал, что пропущенные мной удары, сотрясая мою голову, будут способствовать развитию сюрреалистической фантазии. А теперь я в весе пера, мой вес не меняется, но перо мое все тяжелее, — кокетливо заключил боксер. Он провел меня в гостиную, которую можно по праву назвать домашним музеем. Одна стена была сплошь в разной величины и освещенности фотографиях. Померещенский среди нефтяников Аравийского полуострова. С монгольским космонавтом. С буддийским монахом. С австралийским аборигеном. С рокером Удо Линденбергом. С горным орлом. С нильским крокодилом. С американским президентом у Белого дома. У Белого дома с почерневшими окнами рядом с российским президентом. С доктором Фиделем Кастро. С «Доктором Живаго» в руках. С Армстронгом, певцом. С Армстронгом, космонавтом. С Ван Даммом. С Кукрыниксами. С гигантской черепахой. А это кто? — спросил я, чтобы сделать приятное хозяину. А это я в музее мадам Тюссо в Лондоне, скромно ответил тот.