Башка - [11]
— Вздор… глупости! — ворчал Башка, схватывая себя за голову.
Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блестела своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека счастливым. Просиживая ночи у постели больной, Башка припоминал плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она — улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь… Даже философски-организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет, — оставалась одна форма, а содержание улетучилось.
А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный, был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.
— Мне лучше, — прошептала она и пожала руку Башке.
Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливающей.
Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм брал свое, она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.
— Знаете, что мне кажется? — говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали. — Мне кажется, что я родилась во второй раз… Я как-то проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да… Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоящая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной ленточкой, — и больше ничего. Ведь это во сне все… да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.
Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.
— Что это с ним такое сделалось? — недоумевала Фигура.
— А кто его знает, — равнодушно ответил Медальон. — Он ведь вообще довольно странно себя держит.
Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному благоприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.
— Ну их к черту! — коротко заметил Корнилыч.
— Беленькое платьице… Батистовая рубашка… Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-ха!.. Говорит, во сне видела… Этакая подлая душонка! И ленточка… тьфу!..
Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться — не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.
— Нет, это уж благодарю покорно! — думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке. — Дудки!.. К черту!
Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее. Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.
— Теперь уж кончено, — в сотый раз повторяла Фигура. — Я водки больше ни-ни… У тебя теперь есть место, и я тоже найду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Роман русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото» (1892) о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
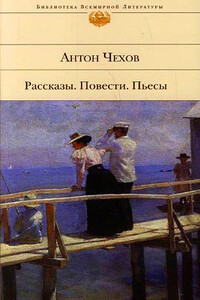
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).
