Балтрушайтис - [4]
Но жизнь все-таки не испугала человека, и он ее приемлет.
В том и состоит своеобразие человеческого всадника, что он не бежит страданья, не уклоняется от креста, – напротив, приветствует его: ave, crux! Его не страшат ни «дымные дали», ни та галера, которая мчит его по морям вселенной. Он поклоняется земле и, «как мулла на минарете», молитву громкую творит и на все четыре стороны земли кладет свой земной поклон. Он хочет своей работой приумножить «богатства Бога» и на алтарь Его, на костер жертвы, принесет не только свой урожай, но и самого себя, и это будет только «малый дар его полей». Чувствуя, что «Божий мир еще не создан, недостроен Божий храм», каменщик этого храма, масон прирожденный, человек, богомольно служит великому Зодчему.
Он поет песню отречения, знает «мощь малости»: «в серой котомке – правда и сила»; он безропотно принимает свою участь; горький труд раба совершает с гордым сердцем господина; он берет на себя суровый долг свободного служения судьбе (пушкинское «свободною душой закон боготворить»): так сочетается свобода и необходимость, и человек внутренне перестает быть рабом. Сквозь пыль и дым придет он в тот вышний храм, которого теперь нам доступна только паперть. Окрыляет надежда, что кончится земная дробность, соединится разъятое и мы войдем в тот «запретный край, где зреет звездный урожай». Как ни частичка и пестра жизнь, но над нею возвышается «первозданная синева»: она всеми управляет.
В куполе этой Божьей синевы сияют звезды, все те же звезды, любимицы Даше и Канта, и к ним воздеты молитвенные руки человека. В чаянии синевы, блаженного слияния с миром, единой духовности, он преодолевает муки дробления и, пройдя свой день, встречая вечер, покорно ожидает нового дня, чтобы поднять новый крест, вспахать еще ожидающие, пока не вспаханные полосы, которых «много, много в далях праха», в обителях Божества. И кончая свой день, свою молитву, произносит странник «аминь» успокоения и упования.
Так в платоновские сферы, к единой синеве, побеждающей непрочную и обманчивую пестроту времен и пространств, возносит нас поэт-мыслитель. Он слишком знает всю безотрадность индивидуальной человеческой доли или, как он любит говорить, недоли; он чувствует всю боль смертного жребия, и элегией звучит его песнь; судя по балладе «Искушение», даже торжество над бледным дьяволом-искусителем, отогнанная крестным знаменьем приманка преступления, – даже легкая совесть не делает нам легче. Но он соблюл достоинство человека и в доверчивом общении с космосом нашел смысл и цель существования. Он победил соблазны пессимизма. Он сумел затаить свою скорбь, в просветленном смирении возвыситься над нею, поклониться светлому Дню, и, приняв себя как живую часть единого целого, как участника мировой совокупности, оправдал мир в себе и себя в мире.
Отпечаток благородства и целомудренности лежит на строгом творчестве Балтрушайтиса. Оно не разнообразно в своих мотивах; его круг имеет определенный диаметр; но это – именно тот круг, в который замкнуты все религиозные темы человечества, все интересы наших печалей и утешающей мудрости.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
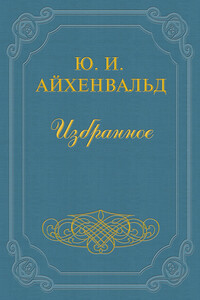
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
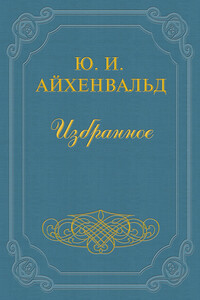
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
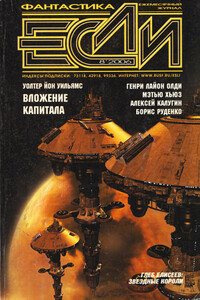
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
