Бабушка, поджав губы, молчала. Может, хоть она будет за меня? Пойдет к заведующей, и всех этих мальчиков накажут, поставят в угол, заставят со мной водиться?
Но бабушка ничего такого не сделала. Холодными, захряснувшими пальцами она принялась развязывать шапку-шар, и взглядам кучковавшихся поодаль мальчишек предстал девчоночий платок, изо всех маминых сил утянутый на моей голове.
— Девчонка! Баба! — зашлись в восторге от моего унижения детсадовцы.
Я увидел, что девочки тоже хихикают, глядя на меня. Одна подошла к моей маме и спросила вежливо, как обычно дети спрашивают у взрослых, сколько времени:
— Скажите, пожалуйста, это мальчик или девочка?
— Это мальчик, — ответила за маму бабушка, стараясь, чтобы голос ее звучал приветливо и ласково.
— А почему он одет как девочка? — продолжала приставать эта нахалка.
— Это мальчик, — повторила бабушка, и голос ее дрогнул от подступивших слез.
Что же они тогда натворили, моя мама и бабушка! И конечно, никто ни в чем себя виноватым никогда не признал. Какая вина, мы же просто хотели, чтобы ты не заболел, Санька! Да я и не ждал от них этого признания вины, не требовал. Да-да, придет время, и я, оставшись после смерти папы «единственным мужиком в семье», усвою требовательный, безапелляционный тон — тот самый тон, с которым мама сказала в тот осенний день: «За пятнадцать копеек!» и «Я буду тебя пороть». С четырнадцати лет, по маминому выражению, я начну метать громы и молнии, а мама (или бабушка, когда я навещал ее в Егорьевске) с готовностью будет исполнять мои прихоти в надежде услышать от Сашеньки слово одобрения…
Всего этого могло не быть, конечно.
Все могло быть иначе.
Но как оно выглядело бы, это «иначе»? Вот вопрос.
А мое унижение и позор в тот день все никак не заканчивались. Мы поднялись в помещение, к шкафчикам раздевалки. Мальчишки гурьбой вошли вслед за нами: а вдруг они увидят еще что-то смешное, вдруг будет новый повод хорошенько подразниться?
И они не обманулись в своих злых ожиданиях. Когда с меня сняли платок… О, какой дружный вопль коллективной радости огласил прихожую детского сада, где стояли деревянные шкафчики!
— Лысый! Лысый! Лысый, иди попысай!
Тут уже воспитательница, высокая и суровая тетка, которую я сразу невзлюбил (а она меня, как, впрочем, и всех остальных мальчишек, а до кучи и девчонок), гаркнула на весь детсад:
— А ну, прекратить! Эт-то что еще такое? Эт-то что еще за слова? Я кому говорила: не сметь говорить такие слова!
Если вспоминать со всей честностью, то мальчики из ставшего «моим» детского садика на улице Тупицына очень скоро, ну, может, через пару дней, позабыли мое провальное появление в группе, а там, через месячишко-полтора, и холода наступили, и в точно таких же цигейковых шубках, как у меня, стали приходить, держа за ручку взрослых, большинство дошколят из нашего детсада. И платочки на голову повязывали всем мальчикам, перед тем как надеть на них такую же шаровидную меховую шапку. Быстротекущее время уравняло нас.
Но я-то, я уже не мог простить им своего позора. Простить того, что они были его участниками и свидетелями.
И когда в десятой школе, что за два квартала от бабушкиного дома, на улице Курлы-Мурлы, сразу несколько из моих обидчиков оказались в одном со мной классе, я враждебно встретил их попытки возобновить старое детсадовское знакомство. Я при каждом удобном случае, войдя в силу благодаря гантелям и гирям дяди Сережи, вызывал их на драку, один на один, и тут уже бил в лицо, как взрослый, до красных соплей. А они в ответ били меня всем скопом, как в тот злополучный сентябрьский день 1970-го…
Лишь с одним из детсадовских мальчиков старшей подготовительной группы я потом подружился на долгие годы юности — с Левкой Моисеевым, и то лишь потому, что в день моего первого привода в детский сад он стоял в сторонке и грустно смотрел на мое избиение сквозь толстые очки. Он был презренным очкариком, и в детском саду ему приходилось куда как солоно, гораздо хуже, чем мне.
А тогда, в тот день моего позора, воспитательница, отругавшись хорошенько, загнала нас в «рекреацию» — так называли большую комнату с обручами для девочек, с деревянными лестницами, — заставила всех надеть «чешки», и началось…
— Пятки вместе, носки врозь!
И пошло, и поехало. «Пятки вместе, носки врозь!» И конца и края этому не видно…
3
— Что ты! Что ты! Разве ж так можно? Надо слушаться маму, мать есть мать! Уже деньги уплочены!
Бабушка махала руками, испуганная моим нежеланием на следующий день идти в детский сад. И я в который уже раз смирился, и мы с бабушкой каждое утро, как на зачин, по фабричному бабушкиному выражению, шли через старый город в детсад, а вечером, уже затемно, она забирала меня домой.
Потом и по утрам стало тёмно.
Моя рука до сих пор помнит, как бабушкина грубая варежка сжимала мою, детскую. Мы шли чуть ли не через весь старый город, опять к заводским железнодорожным путям, не доходя до которых, в подворотне, провалом зиял вход на территорию нашего садика.
Снег еще не выпал, мы продолжали играть в песочнице, да еще занимали очередь к единственным в детском садике качелькам.
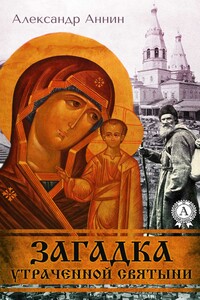


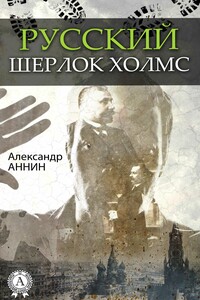



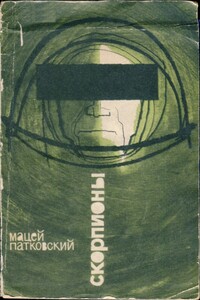

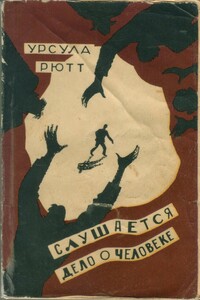
![Электротерапия. Доктор Клондайк [два рассказа]](/storage/book-covers/d8/d84efd2c8d9694f782c81e385d8414b9602f6dab.jpg)
