Бабье лето - [212]
— Да, отец, и рада этому, — отвечала она.
Она встала, удалилась и вернулась переодетой так, чтобы можно было надеть эти драгоценные украшения. Начала она с алмазов и рубинов. Как прелестна была Наталия! Подтвердились слова, что украшения — это рама. Утром, в плену томительных и глубоких чувств, я не обратил внимания на это украшение. Теперь я увидел прекрасные черты как бы в сияющем ореоле. Оказавшись средоточием всех взглядов, молодая женщина покраснела, и ее румянец только и дал душу рубинам и вобрал ее в себя из них. Восторг был всеобщий. Затем Наталия надела украшение с изумрудами. Но и оно оказалось совершенным. Темная глубина камня придавала Наталии строгость, особую красоту. Если в алмазном украшении была какая-то скромность, то в изумрудном было что-то героическое. Ни одному из них не отдали пальмы первенства. Ризах и мой отец сами были с этим согласны. Наталия сняла с себя украшение, оба были уложены в свои футляры. Наталия унесла их и вскоре вернулась в прежнем своем платье.
С изумрудным дело обстояло особо. От него в футляре остались серьги, в алмазное украшение серьги не входили. Матильда и Наталия не носили серег, потому что, по их мнению, украшение должно служить телу. Если же телу наносят рану, чтобы повесить украшение, тело становится слугой украшения.
Когда все еще говорили о камнях, об их назначении и о том, что на теле они выглядят совсем иначе, чем в футляре, Ойстах сказал нечто, показавшееся мне очень верным.
— В чем внутреннее назначение драгоценных камней, — сказал он, — никому, по-моему, знать не дано. У человека они лучше всего украшают тело, и прежде всего обнаженные его части, но также одежду и все, с чем он еще соприкасается: королевские короны, оружие. Просто на мебели, как бы хороша она ни была, камни кажутся мертвыми, а на животных — униженными.
Долго еще говорили об этом предмете, разъясняя его примерами.
— Поскольку наше состязание окончилось сегодня вничью, — сказал Ризах моему отцу, — посмотрим, кто с меньшими затратами превратит свое имение в большое произведение искусства: ты свой Дренхоф или, если ты предпочитаешь называть его так, Густерхоф, или я свой Асперхоф.
— Ты уже опередил меня, — возразил мой отец, — и у тебя есть хорошие чертежники, а я только начинаю, и мой чертежник вряд ли будет делать для меня еще какие-то чертежи.
— Если в Асперхофе у нас не будет работы, мы поработаем в Дренхофе, — сказал Ойстах.
— Да если и будет, — возразил Ризах, — я хочу дать противнику оружие.
День постепенно подходил к вечеру. Трапеза давно кончилась, и, как то часто бывает, за столом продолжали беседовать.
Я уже давно обратил внимание на поведение садовника Симона. Как и главные слуги дома и хутора, он был приглашен к столу. Другие обедали на хуторе. Утром я подарил ему на память об этом дне серебряную табакерку с моим именем на крышке. Эту табакерку он держал при себе на столе и беспокойно к ней прикладывался. Не раз он перешептывался с женою, сидевшей рядом с ним, часто уходил и возвращался. Вот он и вернулся в зал после одной из таких отлучек. Он не сел и, казалось, боролся с собой. Наконец он подошел ко мне и сказал:
— Всякое добро вознаграждается, и вас ждет сегодня еще большая радость.
Я посмотрел на него недоумевающе.
— Вы спасли cereus peruvianus, — продолжал он, — во всяком случае, он был на волосок от гибели, а вы стали причиной тому, что он попал в этот дом, и сегодня он расцветет. Я старался задержать его холодом, даже опасаясь, что он сбросит почку, чтобы он расцвел не ранее, чем сегодня. Все вышло хорошо. Наша почка вот-вот распустится. Она может раскрыться через несколько минут. Если общество соизволит оказать честь оранжерее…
Тотчас все встали из-за стола и приготовились отправиться к теплицам. Симон убрал все вокруг peruvianus'a, высившегося в особом стеклянном домике, и освободил место для обзора. Цветок, когда мы вошли, уже распустился. Большой, белый, великолепный нездешний цветок. Все в один голос похвалили его.
— У скольких людей есть peruvianus'ы, — сказал Симон, — ведь это не такая уж редкость, и стволы у них бывают очень могучие, а мало кто доводит его до цветения. В Европе мало кто видел этот цветок. Сейчас он раскрывается, а завтра на рассвете его уже не будет. Он ценен своим присутствием. Мне посчастливилось заставить его расцвести — и как раз сегодня… это счастье, доставляющее истинную радость.
Мы долго стояли, ожидая, чтобы цветок полностью распустился.
— В отличие от обычных растений цветов у перувиануса бывает немного, — сказал Симон затем, — а всегда только один, позднее — опять один лишь.
Мой гостеприимец искренне радовался цветку, Матильда — тоже. Мы с Наталией поблагодарили Симона особенно за такое внимание и сказали, что никогда не забудем этого сюрприза. У старика стояли в глазах слезы. Он поместил вокруг цветка лампы, чтобы зажечь их с наступлением сумерек, если кто-нибудь захочет посмотреть на цветок ночью. При дальнейшем рассматривании цветок нравился нам все больше и больше. Мало что в нашем саду могло сравниться с ним по редкости, благородству и красоте. Наконец мы ушли, и кое-кто пообещал зайти в течение вечера снова.
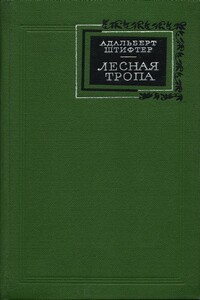
Предлагаемые читателю повести и рассказы принадлежат перу замечательного австрийского писателя XIX века Адальберта Штифтера, чья проза отличается поэтическим восприятием мира, проникновением в тайны человеческой души, музыкой слова. Адальберт Штифтер с его поэтической прозой, где человек выступает во всем своем духовном богатстве и в неразрывной связи с природой, — признанный классик мировой литературы.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.