Азорские острова - [53]
Все было понахватано без разбора, все – чужое; ничего из этих «красот» я не видел, не чувствовал, но какое наслаждение было следить за льющейся из-под пера ровной строчкой, выстраивать строчечные столбики на чистых страницах конторской книги! Лепились, лепились друг к дружке пустые слова, росли столбцы, и я радовался тому, что создал их.
«Осенняя поэма» складывалась так же легко, как и прежнее, резво бежало перо, любимое мое «рондо»; чернила (сам сделал из порошка) густо-синие блестели, высыхая: я в них чуточку сахару подсыпал. А что касается «Осени», так я не очень-то ломал голову над тем, что же у меня получается: слова летели, звенели – чего же еще? Она изображалась в виде владычицы леса: сейчас как-то туманно все это представляется, – пятьдесят лет прошло, не шутка! – но что-то, кажется, в ее образе было старорусское, только не смиренное, не истовое, а диковатое что-то, вроде Царь-Девицы, богатырши, славянской амазонки. Ни одной строки не помню, а ощущение живо. Да, именно Царь-Девица. Всякие там терема, кокошники, телогреи. Эта рыжая раскрасавица явно перекочевала в мои листочки из бунинского «Листопада», и я, конечно, понимал, откуда она взялась. Но размер стиха был другой, да и сам образ моей амазонки, буйный и диковатый, резко отличался от бесплотной и скорбной Осени у Бунина.
Так бы, разумеется, как все прочее, и замуровалась навечно моя поэма в великолепном гроссбухе, если б вдруг во мне не загорелось… Как пожар, загорелось – вынь да положь – увидеть стихи свои напечатанными, имя свое и фамилию увидеть набранными типографскими литерами.
И сделалось беспокойно. Какую-то перемену в себе я почуял, но никак не мог понять – что же это такое со мной. А это гаденыш тщеславия зародился и стал во мне жить.
И вот я старательно переписал поэму на большие, чистые листы и понес ее в редакцию «Воронежской коммуны».
Она помещалась на проспекте Революции, во дворе, где нынче один из цехов типографии «Коммуна». Робея, остановился я в темноватом туннеле ворот: идти ли? Не то чтобы страшно сделалось, нет, тут от какого-то другого чувства, и жуткого и радостного вместе, одеревенели ноги, захолодало в груди. Секунду, две, а может, и целую минуту простоял я в блаженном столбняке, пока под гулкими сводами не громыхнул матерок:
– Эй, ты… так твою!
В ворота въезжали ломовые дроги, нагруженные какими-то ящиками. Я отскочил, прижался к стене. Высекая из булыжника искры, тяжело, звонко протопал ребрастый седой битюг с длинной гривой, старательно заплетенной в толстые косы. Я вспомнил картинку из какой-то книги – «Клятва древних германцев»: здоровенные бородатые мужики в рогатых шлемах; голыми, дюжими руками они подымали рог, а из-под шлемов на груди свисали светлые бабьи косы. Битюг был удивительно похож на древнего германца. Мне сделалось смешно, весело, я пропустил ломовика, решительно пересек плохо замощенный двор и переступил порог редакции.
Черный указующий перст на белой картонке велел подыматься наверх. На первом этаже размещалась типография, и лестница вся пропиталась ее запахами: машинного масла, краски, керосина, лака, – теми приятными особенными запахами, какие свойственны любой типографии – от старенькой, кустарной до нынешней, современной, с ротационными машинами и линотипами.
Комнатки редакции были малы, тесны, темноваты. После яркого света улицы они мне еще темней показались. Множество людей сидело за столами в первой, самой просторной комнате. Они писали, шумно разговаривали, смеялись, кричали в деревянный настенный телефон. Тут все тот же типографский запах стоял, но к нему еще примешивались и другие: фиолетовых чернил, клея и кожи, что ли (несколько человек одеты были в кожанки), сейчас хорошенько не припомню.
Я подошел к тому, что сидел почти возле двери. Он был в затерханной, с обгоревшей полой солдатской шинели и в грязных обмотках на тощих ногах. Красное, кирпичного цвета лицо беспокойно подергивалось, кривилось; и носом он шмыгал то и дело, словно от насморка. Мельком, рассеянно взглянув на меня, спросил, продолжая писать:
– Ты ко мне?
– Вот стихи, – как-то сразу оробел я, охрип. – Стихи… К кому бы…
– Миша! – гундосо, насморочно крикнул он. – Бахметьев! Пацан стихи принес…
Я обиделся: пацан!
Подошел какой-то чудной, с нездоровым, сильно перекошенным набок лицом.
– Ты что, Френч? – спросил.
«Ах, так это Старый Френч!» Пришлось смириться, простить пренебрежительного «пацана». Имя Френча мне было хорошо знакомо, оно чуть ли не в каждом номере газеты мелькало; фельетоны Старого Френча славились, смотреть газету начинали с них. Позднее я узнал его ближе, это был странный, своеобразный человек. Он презирал чтение книг и, кажется, ставил это себе в заслугу, Его, например, опрашивали:
– Френч, ты Чехова читал?
– Нет, не читал, – шмыгал носом.
– Да как же тебе не стыдно!
– А чего стыдно? – сопел невозмутимо. – Вот вы все книжки прочли, сдираете с них…А я сам по себе, я сам из своей головы пишу.
Человека с перекошенной щекой, которого он назвал Бахметьевым, я тоже знал по газете и еще по маленькой книжечке в зеленой обертке, которая называлась «Повесть об одной дурацкой любви». Это был брат тогда уже известного писателя Владимира Бахметьева, Михаил. Он взял у меня довольно помятые листы поэмы (я тискал их в потных руках) и принялся просматривать. Возле него появились еще двое: один щуплый, бледный, словно набеленный. Я его заметил, как вошел, с порога: одетый чисто, франтовски даже, вертелся туда-сюда, во все стороны, и все поправлял галстук. Галстуки в те годы редко кто носил, и это, конечно, сразу выделяло человека. Но еще удивительней было другое: черный рожок, трубка, которую он постоянно держал возле уха, слушал в нее. Второй – коренастый, светловолосый, с добрыми, улыбающимися глазами, и лицом и одеждой похожий на мастерового.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
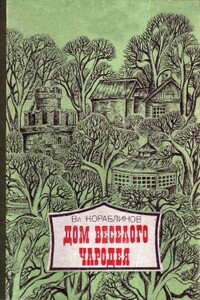
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
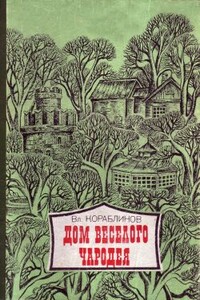
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
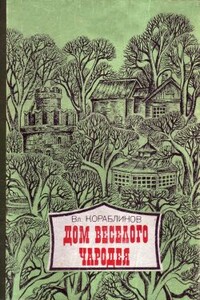
«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.
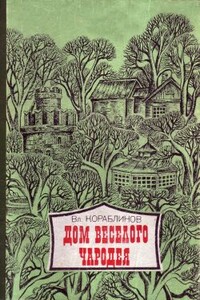
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
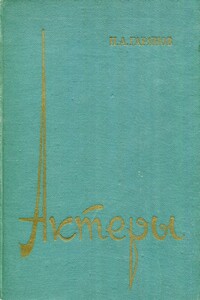
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.