Азорские острова - [15]
Верховой на́рочный прискакал под вечер зимнего дня. На голубоватом листке телеграммы всего три слова: «Михаил Васильевич скончался».
И тотчас в большие ковровые сани запрягается серый мерин, и в доме суета, спешные сборы, и мама плачет, и хмурится отец.
А я счастлив: меня берут с собой.
Дорога в санях на станцию, ночной поезд, вагон с таинственным пощелкиванием парового отопления, молочно-белый круг фонаря на потолке, наполовину задернутый сивой занавеской, копченые миноги в промасленном листе «Русского слова», дешевая вагонная еда…
Интересно необыкновенно; никуда не собирались ехать и вдруг – едем!
Скончался острогожский дядя Михаил Васильич, в доме которого всегда почему-то пахло стиркой и который, как мне казалось, всегда был чем-то недоволен. Высокий, бледный, с чахлой бородкой. Быстр в движениях, но молчалив. Бабушка отзывалась о нем с презрительной усмешкой: «Чудак, не от мира сего, все клады ищет… Это даже и неприлично, священнику-то… Бедная Раечка!»
Бедная Раечка была маминой сестрой, женою Михаила Васильича. Бессловесная, непримечательная, она чуть ли не каждый год рожала по мальчику. Двоюродные мои братцы отличались дурным характером и необыкновенной проказливостью: чуть что – лезли в драку, и, сказать по правде, я их побаивался.
Клады же, раздраженно поминаемые бабушкой, были не что иное, как дядино увлечение археологией. Не могу сказать, откуда пришла к нему эта страсть, но – вот подите же! – каждое лето на месяц и более уезжал с работником в степь и там копал по бесчисленным курганам и, случалось, что-то находил, какие-то черепки, бронзовую цепочку, зазубренный, изъеденный ржавчиной топоришко. Был в постоянной переписке с воронежскими «копателями» – краеведами Степаном Зверевым и В. В. Литвиновым. Все эти подробности я, разумеется, узнал много позднее, и они помогли мне хоть немного понять, что за человек был мой дядя и что значило бабушкино презрительное определение: «не от мира сего».
Но вот теперь он скончался.
Странное слово услышано впервые. Оно не совсем понятно, значение его туманно, загадочно. Прочитав телеграмму, мама заплакала:
– Шестеро сироток… Как же они теперь, без отца-то?
Значит, подумал я, он просто-напросто умер. Но почему бы так и не сказать, а то – скон-чал-ся.
Какое неуклюжее, неприятное слово.
О мертвых вообще любят говорить туманно, невнятно. Например: такой-то преставился. Или: приказал долго жить. Отец однажды сказал про умершего:
– Ушел в лучший мир.
А старик наш Потапыч, когда заболел и его соборовали и причащали, и все говорили, что он обязательно умрет, – тот и вовсе меня озадачил. Я залез к нему на печь и, жалея его, спросил, что это с ним. «Ох, да что-что, – закряхтел старик. – Видно, брат, домой пора…»
Какая-то путаница, неясность связывалась со смертью, и я все думал и думал об этом, и в лесу по пути на станцию, и в вагоне.
Но приехали в Острогожск – и все еще больше запуталось.
Когда мы вошли в дом Аполлосовых, первое, что меня поразило, был дядя Михаил Васильич. Он лежал на столе, и это, пожалуй, показалось даже немножко смешно. Я ведь никогда не видел, как обряжают покойников (мертвую Зину прямо с постельки положили в гроб и сразу унесли). Кругом все плакали, вздыхали, и было много чужих, незнакомых людей. И запах в комнатах стоял какой-то сладкий, тошнотворный: это курились расставленные по подоконникам ароматные свечки, известные под названием монашек. Черные, остроконечные, они и вправду напоминали крохотных, величиною с мизинчик, монахинь – черные ряски, черные иноческие куколи. И, верно, из-за этих монашек в дальнейшем самое слово смерть обязательно вызывало в моем воображении отвратительные пахучие угольки, дымящиеся на белых, холодных подоконниках.
Но о монашках – к слову, между прочим; важно было другое: оказывалось, что дядя не просто умер, а отравился. Он проглотил порошок яда – стрихнина – и после этого еще сколько-то часов пребывал в каком-то непонятном мне состоянии. «Находился между жизнью и смертью», – сказал старший из моих братьев, гимназист шестого класса, любивший выражаться значительно, книжно и не всегда понятно.
Мелькнуло жутковатое словцо самоубийство. Слово это я и раньше слыхивал и что это такое – знал. Но ведь оно до сей поры для меня всего лишь общим понятием существовало, а сейчас воплощалось непостижимо в образ лежащего на белой скатерти синевато-бледного человека, убившего себя, – для чего, зачем?
Я слонялся между незнакомыми людьми, из их разговоров пытаясь понять – для чего же все-таки понадобилось дяде убивать себя? Но так ничего и не понял. Гости о разном толковали: о дороговизне жизни (вечная тема обывательского гостеванья), о каком-то монахе Иллиодоре, о недавнем поездном крушении, о бедственном положении несчастной вдовы, – о чем угодно толковала, только не о дяде. О нем лишь раз помянулось глухо – что глупое копанье в земле к тому только привело, что детишкам его теперь хоть по миру иди… Еще какая-то поминалась девица, сиротка, которую дядя призревал и которая… – которая что? – я не расслышал: говорившие перешли на шепот и засмеялись.
Затем медленное время потянулось в скуке, в тоске по дому, в чужом многолюдстве, в неприятном, шумном обществе двоюродных братцев, в непрекращающемся гуле вздохов, сморканий, унылого бормотания псалтырной чтицы, в застойном смраде четырех ни разу не проветренных комнаток.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
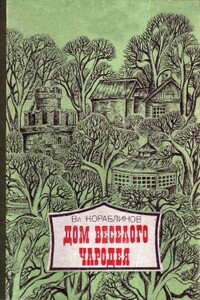
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
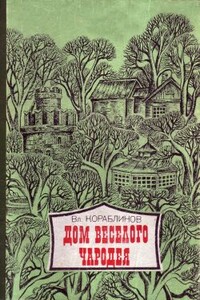
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
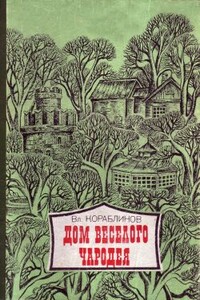
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
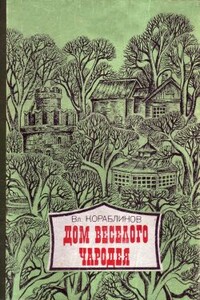
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.