Азиат - [5]
Мишенев вскинул глаза.
— Можете не говорить, каждый выбирает ношу по себе, — сказала Афанасия Евменьевна и тут же перешла на другое:
— Сколько же вам лет?
— Восемнадцать.
— Можно дать больше.
Она вздохнула.
— Я столько же лет отдала школе, сколько сейчас вам, — восемнадцать. Как бежит время… Боже мой!
Они сидели на табуретках возле классного стола, заваленного тетрадями. В небольшие окна пробивался свет туманного ноябрьского дня.
— Трудно будет, — говорила Кадомцева, — но не отчаивайтесь. К ученикам привыкнете, а рудокопы — народ, хоть и тяжелый, темный, однако отзывчивый. — И добавила: — Говорят, что Павел Васильевич Огарков, управитель наш, хлопочет о постройке новой школы.
Ободрила тогда Кадомцева молодого учителя. И потом, когда Мишенев принял от нее школьное имущество и остался один, Афанасия Евменьевна как бы присутствовала в классе, поддерживала его. Он знал, что ученики любили Кадомцеву, что, конечно же, сравнивают их. И Герасим искал пути к дружбе с ними, был убежден, что ученики в учителе должны видеть прежде всего своего умного наставника, друга.
Случалось, кто-нибудь из учеников недомогал, и он запрягал лошадь и увозил заболевшего к фельдшеру на поселок Тяжелого рудника.
В свободные часы Герасим ходил с учениками в лес, обязательно поднимались на Шихан-гору, откуда просматривались синие, причудливые горные хребты, убегающие в разные стороны. Иногда он брал скрипку. Садились в кружок, пели песни про русскую старину, про смелых людей, боровшихся за народное счастье. Эти песни он разучивал со своим учителем в Зирганской школе.
«Вниз по матушке, по Волге» или шуточную, веселую песню «За три гроша селезня наняла» начинали подтягивать и рудокопы, если оказывались поблизости. Сначала они относились к молодому учителю настороженно: «Учителишко-то совсем парнишка супротив Афанасии Евменьевны. Ему в бабки играть бы». И сам он, Мишенев, чувствовал и понимал это. Но нравилось рудокопам, что их не чуждался учитель, интересовался жизнью, часто заступался и не лебезил перед рудничным начальством, а, как ерш, делался колючим, когда заходила речь о нужде.
Всего лишь три года провел в Рудничном Герасим, но последующая его жизнь в Уфе, полная тревог и опасностей, не заслонила их. Именно в Рудничном захотелось ему помочь рудокопам — «шматам», как называли там этот бедный, задавленный непосильной работой люд. Он мог бы сказать: три года внушал им, что и для них тоже может быть совсем иная, светлая жизнь.
Жил Мишенев у Дмитрия Ивановича, потомственного рудокопа, отменного мастера, которого попросту звали — рудобой Митюха. Длинными зимними вечерами о многом разговаривали они.
— Башка-парень ты, Михалыч, — говорил ему рудобой, — сердобольный, но когда она, жизнь-то, лучшая, придет, меня на свете не будет. Не сулил бы ты журавля в небе, а дал бы синицу в руки.
И начинал рассказ о своей рудничной правде, как о тайне, полушепотом:
— Ночью-от пойди к Успенскому руднику. Не пойдешь! Жуть возьмет. Молотки стучат, мужики-лесники гогочут, свищут, и тут работают ребятишки, ревут жалобными голосами. Дети-то урок выполняют. Там, родной, запороно полтораста живых шматовских детев. На рудники-то малолетками отдавали…
Митюха говорил правду: работали дети на рудниках, до смерти пороли мальчишек за невыполнение «уроков».
— Пойди-ка ночью-от к Успенскому, с ума сойдешь… вон… синие горы — свидетели…
— Да разве можно забыть такое? И надо бередить людей, чтобы не забывали, — сказал Герасим Михайлович.
— Темны, Михалыч, темны. Учить вроде учили, но как? Дед Егорша, что привез тебя, коренной шмат, а учился одну зиму. Обучился фамилию царапать. А за лето разучился. Вместо росписи крест ставил. Знали хорошо одно: на руде выросли, на руде и помрем…
И Мишенев не раз ходил к Успенскому руднику, спускался в забой, где загублены сотни детей. Сердце сжималось от боли.
Весной 1897 года до Рудничного стали долетать добрые вести о волнениях на Златоустовском казенном заводе. Мишеневу о них рассказывал Дмитрий Иванович.
— И что же делают? — спросил его Мишенев.
— Недовольничают. Порядки у ихнего начальства прижимистые, вот и бушуют.
— А в Рудничном?
— У начальников одни законы, Михалыч, в разинутый рот пряника не положат. Голова не болит от нашей нужды.
— И болеть, Дмитрий Иванович, не будет. Сытый голодного не разумеет.
— Вот кабы всем нам, Михалыч, обрушиться на эту нужду.
— Собраться надо, потолковать.
Незаметно наступило и лето. В прошлые каникулы Мишенев выезжал в родные места, встречался с ссыльными, жившими в губернском центре. Они держались ближе друг к другу и составляли свою колонию. Все находились под гласным надзором. Однако это не мешало им вести довольно независимый образ жизни: терять-то ведь было нечего — ссыльная жизнь в одном городе ничем не отличалась от ссыльной жизни в другом. Мишенева тянуло к ним. Однако на этот раз он задержался в Рудничном. Хотелось поближе сойтись с рабочими, послушать, лучше узнать их.
По утрам глубокая и широкая рудничная яма освещалась солнцем только с одной стороны, другую окутывал мрак. Исполинской лестницей спускались уступы с верхнего края ямы. До позднего вечера во всех углах рудника раздавался стук кайл, шум отваливаемых глыб, топот лошадей, крики и брань рудовозов. В воздухе повисали густые облака пыли, дышать было нечем. Солнце накаляло камни, и в яме стояла изнурительная духота.
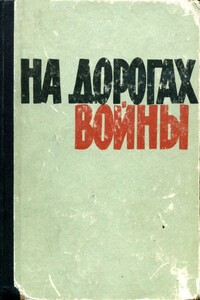
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
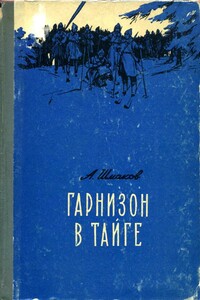
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
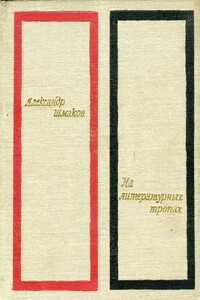
«На литературных тропах» А. Шмакова представляет собой историко-литературные очерки о Радищеве и Акмулле, Сейфуллиной и Завалишине, Серафимовиче и Фадееве и о других писателях, связанных с историей нашего края.Значительное место в книге занимают обзорные очерки «Уральские писатели о Ленине», «Дооктябрьская «Правда» и литературная жизнь Урала».Сборник «Литературные тропы» представляет интерес для литературоведов, учителей, библиотекарей, краеведов и любителей литературы.
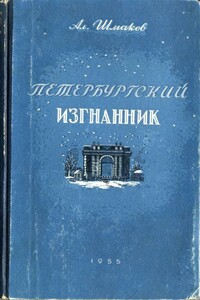
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
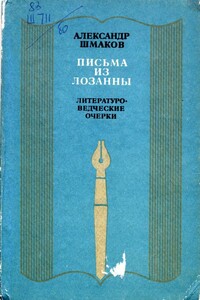
Книга литературоведческих очерков о писателях, чья жизнь и творчество были связаны с Уралом, Особое место отведено письмам выдающегося книговеда, библиографа и писателя Н. А. Рубакина.
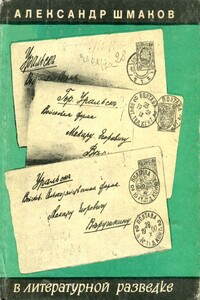
Александр Андреевич Шмаков — известный уральский писатель и литературовед. Он — автор романов: «Петербургский изгнанник», «Гарнизон в тайге»; сборников: «Наше литературное вчера», «На литературных тропах», «Горький и Урал».В новой книге А. Шмаков продолжает дело, начатое им в предыдущих сборниках: показывает связи с Уралом таких писателей, как Ф. Достоевский, В. Короленко, Н. Погодин, Э. Казакевич и др.Книга рассчитана на краеведов, учителей, библиотекарей, студентов и всех, кто интересуется литературной жизнью нашего края.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».