Азиат - [4]
Лошадь бодро трусила лесистой дорогой. Кругом стоял молодой, горевший от яркого закатного солнца березняк. Пахло полевой мятой, черникой и еще чем-то знакомым — сладким разнотравьем, переплетеннным душистым вязелем.
Граница была позади.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Детство Герасима прошло в бедноте и крестьянской нужде. Отец его, угрюмый и молчаливый, без устали трудился, чтобы только прокормить семью в шесть ртов.
Жили Мишеневы в избе, срубленной из толстых бревен. Три окна ее выходили на улицу. Окно на кухне смотрело во двор, на амбар, где хранилось зерно, сбруя, веревки, мешки и другие мужицкие пожитки.
Русская печь делила избу на две половины. Подросшие дети ютились на полатях, спали под одним одеялом. В горнице стоял неуклюжий сундук с горбатой крышкой, ближе к печи — деревянная кровать, застеленная самотканым покрывалом. Сундук этот, как и сама изба Мишеневых, срубленная в начале прошлого века, переходили по наследству к старшим сыновьям. Когда-то к избе подступало густолесье, собственность помещика Пашкова, имевшего рядом с Покровкой Богоявленский завод.
Посевы на арендованной у заводчика земле давали столь мало хлеба, что его не хватало до нового урожая. В зимнюю пору отец занимался извозом, все концы с концами не сводил.
— Робишь, робишь, — повторял бывало отец, — воскресного дня не знаешь, а все кукиш в кармане. Хоть бы ты у меня колосом поднялся, Гераська, человеком стал…
О семье своей Мишенев помнил, что была из крепостных, из-под Москвы, что барин Пашков выменял их и поселил хуторком тут, в густолесье на Урале. Когда Герасим подрос, отец определил его в церковно-приходскую школу.
— Набирайся ума, Гераська, выходи в люди.
И Герасим старался. После окончания церковноприходской школы, пошел в двухклассное училище большого села Зирган и закончил его с похвальным листом.
— Учить дальше сына надо, Михайло, — говорил старшему Мишеневу учитель из бывших политических ссыльных. — Знаю, что трудно, но надо!
Он помог Герасиму поступить в Благовещенскую учительскую семинарию. Здесь и приобщился к запретным книгам, а позднее вошел в революционный кружок семинаристов, стал изучать нелегальную марксистскую литературу.
Жил Герасим на стипендию тяжеловато. Из дома помогали мало, изредка присылали туесок с медом, кусок сала, калачи. Всего этого не хватало. Он приходил на пристань, таскал мешки и ящики, разгружал лес и дрова. Артель грузчиков неохотно принимала новичков, но к семинаристам относилась снисходительно, давала прирабатывать на срочных погрузках, когда не справлялась сама.
Нелегко было таскать груз на «козе» — рогульках, прикрепленных к плечам широкими ремнями, обмотанными тряпьем. С непривычки болели ноги, руки, ныло тело, но крепился Герасим, старался не выказывать усталость. Артельные грузчики были дружны и сноровисты. Ему всегда хотелось быть поближе к ним, своим среди них. Он читал им стихи Некрасова, а то рассказывал о Чернышевском и его книгах.
— Красно баешь, семинаристик, — отзывался иногда хмурый старшой, — токма байками сыт не будешь…
— Живете вы, что вошь в овчине.
— Коли вошь сытно живет, так и вше позавидуешь…
— А что вы — не люди?
Герасиму хотелось, чтобы Рахметов, которым он восхищался у Чернышевского, полюбился и грузчикам. И в один из перекуров он пересказал им содержание романа «Что делать?». И был доволен тогда, что пересказанные мысли Чернышевского заставили грузчиков задуматься.
В 1894 году Герасим закончил семинарию. На торжественном выпускном вечере вместе со «Свидетельством на звание учителя начального народного училища» ему вручили похвальную характеристику. Вручал ее директор семинарии. Он напутствовал выпускников, чтобы они до конца своей жизни были верны святому делу просвещения и царскому трону.
С достоинством принял Герасим это свидетельство, тисненное золотыми буквами, почтительно поклонился залу. Он, земский стипендиат, теперь будет ждать назначения на службу Губернской земской управой.
За назначением в школу предстояло явиться в Уфу — в губернский город. К великому удивлению, все уладилось как нельзя лучше. Нужен был учитель в земскую начальную школу поселка Рудничного на Саткинском заводе. И Герасим получил назначение в поселок рудокопов.
Пожитки его были скромны: связка книг да скрипка в стареньком, ободранном футляре — ее подарил учитель из Зирган.
Земская начальная школа, куда прибыл Герасим, размещалась в низеньком одряхлевшем домике. Работала здесь Афанасия Евменьевна Кадомцева, в прошлом выпускница Уфимской дворянской гимназии. Она встретила Герасима по-матерински, помогла ему устроиться с жильем, рассказала, чем надо заниматься, познакомила с людьми.
Строгая, одетая в темное платье с белым пикейным воротничком, сколотым брошкой, Кадомцева оставила хорошее впечатление о первой встрече. Она знала многих «невольных» жителей, сосланных в Уфимскую губернию за революционные взгляды. Была знакома с «неблагонадежными» и симпатизировала им. Все это узнал и понял Герасим позднее.
— Кончали Благовещенскую семинарию? — спросила она в первый день их встречи.
— Да, — отозвался Герасим.
— Обстоятельно готовит учителей, самостоятельность в них развивает, — подчеркнула Кадомцева.
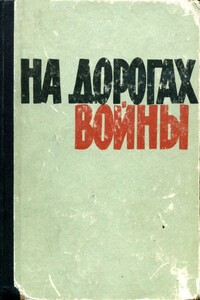
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
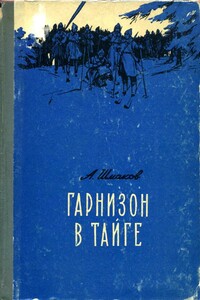
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
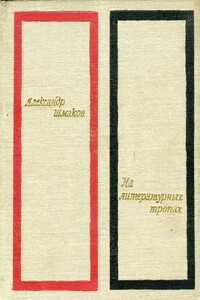
«На литературных тропах» А. Шмакова представляет собой историко-литературные очерки о Радищеве и Акмулле, Сейфуллиной и Завалишине, Серафимовиче и Фадееве и о других писателях, связанных с историей нашего края.Значительное место в книге занимают обзорные очерки «Уральские писатели о Ленине», «Дооктябрьская «Правда» и литературная жизнь Урала».Сборник «Литературные тропы» представляет интерес для литературоведов, учителей, библиотекарей, краеведов и любителей литературы.
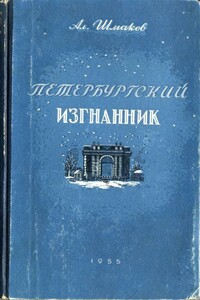
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
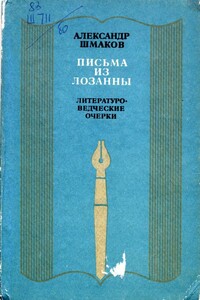
Книга литературоведческих очерков о писателях, чья жизнь и творчество были связаны с Уралом, Особое место отведено письмам выдающегося книговеда, библиографа и писателя Н. А. Рубакина.
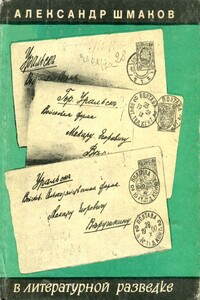
Александр Андреевич Шмаков — известный уральский писатель и литературовед. Он — автор романов: «Петербургский изгнанник», «Гарнизон в тайге»; сборников: «Наше литературное вчера», «На литературных тропах», «Горький и Урал».В новой книге А. Шмаков продолжает дело, начатое им в предыдущих сборниках: показывает связи с Уралом таких писателей, как Ф. Достоевский, В. Короленко, Н. Погодин, Э. Казакевич и др.Книга рассчитана на краеведов, учителей, библиотекарей, студентов и всех, кто интересуется литературной жизнью нашего края.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».