Азбука - [113]
Комментарии
Послесловие
Мир в алфавитном порядке
Словарь — книга, которая, требуя мало времени каждый день, забирает много времени за годы. Такую трату не следует недооценивать.
Милорад Павич
«Abecadło» («Азбука») — один из поздних текстов Чеслава Милоша — создан в форме энциклопедического словаря. В сделанном по прошествии ряда лет предисловии Милош отмечает: «„Азбука“ создавалась вместо романа или на грани романа, в духе моих постоянных поисков „формы более емкой“. Мне подумалось: почему бы не испробовать форму, к которой я до сих пор не обращался? Она дает свободу, ибо не гонится за красивостью, но фиксирует факты».
Милош — человек формы, один из немногих, кто остро ощущал парадоксальность отношений языка и текста с миром. «Поэзия есть страстная погоня за действительностью»[496] и процесс «заключения» мира в слова всегда связан с выбором формы, способной вместить в себя многоплановость и многообразие бытия. Однако никакая форма, как и сам язык, не соразмерна реальности. Литература создает иллюзию зеркала, и реализм в литературе — это всегда «как будто» реализм. Все попытки сказать то, что действительно значимо и не расходится с тем, каков мир «на самом деле», завершаются одним и тем же: вновь и вновь язык и культура возвращают поэта, словно отбившуюся от стада овцу, в пространство выработанных ими литературных форм и конвенций[497]. В «Нортоновских лекциях» Милош в этом контексте отмечает: каждая жанрово-композиционная форма в культуре обладает собственным бытием — подобно грамматическим структурам языков, она априорно содержит в себе «серии предписаний», и это становится препятствием на пути «достижения словом мира». Поэзия, подобно птице, бьется о стекло языка.
На протяжении всей творческой жизни Милош пытался создать литературную форму, способную вобрать в себя жизнь, время и сознание. Она должна пребывать в пограничье между жанрами и способами речи, между поэзией и прозой, вне выработанных историей культуры конвенций. Отсюда и ее авторское определение: forma bardziej pojemna — форма, способная «вместить» в себя более, нежели другие. Парадоксальная целостность текстов позднего Милоша[498] создается в сопряжении поэзии, эссеистики, отдельных замечаний и фрагментарных размышлений (Милош именует их noty), выписок из книг других авторов в форме «замечаний на полях прочитанных книг», пунктирно намеченных, но еще не написанных текстов («тем, отданных другим авторам»). О последних в «Придорожной собачонке» Милош говорит так: проще всего подумать, что я отдаю свои темы другим, потому что я стар и не сумею ими воспользоваться. Однако этот простой ответ стоит дополнить. «Мои темы пригодятся тем, кто устал от исповедальной литературы, широко разливающегося потока сознания, бесформенности повествования о себе»[499].
По существу, все поздние тексты поэта посвящены проблеме самоопределения, или самопознания. «Азбука» — это также «путеводитель по себе», но для него Милош выбирает жестко определенную форму энциклопедического словаря и следует ее канонам. Действительно, в структуру «Азбуки» входит 200 статей, расположенных в алфавитном порядке. Как и в обычном словаре, имеющем определенную тематическую направленность (например, энциклопедическом, философском), в этой книге представлены тексты, очерчивающие границы одной темы: XX век в биографии Милоша и одновременно Чеслав Милош в истории своего века. Среди статей «Азбуки» — персоналии-портреты поэтов, философов, художников, людей науки и искусства, размышления об этических категориях, философских понятиях, портретные зарисовки городов, стран и даже языков. Почему же именно фиксированная конструкция словаря оказалась способна отразить и вобрать в себя вехи интеллектуальной и духовной истории XX века — его трагедии, войны, смерти народов, научные открытия, важнейшие книги, личную судьбу поэта?
Словарная форма — не единичный случай в литературе. Несомненно, в культуре XX века наиболее воспроизводимая литературная ассоциация со словарем — это «Хазарский словарь» Милорада Павича («романлексикон в 100 000 слов»). Здесь композиция словаря даже возводится в степень, поскольку это «словарь словарей о хазарском вопросе», состоящий из трех самостоятельных книг: «Красной», «Зеленой» и «Желтой». Каждая из них строится по принципу словаря, то есть состоит из статей, расположенных в алфавитном порядке.
Однако более убедительный контекст восприятия для милошевской «Азбуки» составят не роман-словарь Павича, а воспоминания, автобиографии, композиционной формой которых также стала система текстов, скрепляемая алфавитным расположением. Это книги польских писателей, публицистов Стефана Киселевского, Антония Слонимского и Густава Герлинг-Грудзинского[500]. Интересно, что все они датируются концом XX века и все, за исключением последней, созданы как автобиографические словари воспоминаний. Не случайно А. Слонимский отмечал: «Когда я пишу о других, я, конечно же, имею в виду прежде всего самого себя».
Стилистический потенциал словаря как литературной формы предуготован спектром символических и культурных значений, стоящих за знаками
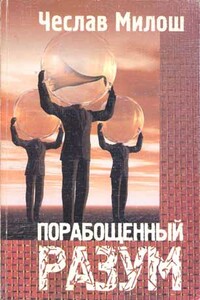
Книга выдающегося польского поэта и мыслителя Чеслава Милоша «Порабощенный разум» — задолго до присуждения Милошу Нобелевской премии по литературе (1980) — сделала его имя широко известным в странах Запада.Милош написал эту книгу в эмиграции. В 1953 г. она вышла в Париже на польском и французском языках, в том же году появилось немецкое издание и несколько англоязычных (в Лондоне, в Нью-Йорке, в Торонто), вскоре — итальянское, шведское и другие. В Польшу книга долгие годы провозилась контрабандой, читалась тайком, печаталась в польском самиздате.Перестав быть сенсацией на Западе и запретным плодом у нас на Востоке, книга стала классикой политической и философской публицистики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
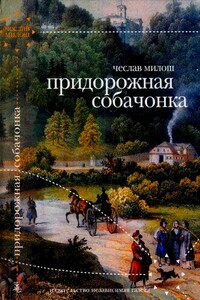
Книга нобелевского лауреата 1980 года Чеслава Милоша «Придорожная собачонка» отмечена характерными для автора «поисками наиболее емкой формы». Сюда вошли эссе и стихотворения, размышления писателя о собственной жизни и творчестве, воспоминания, своеобразные теологические мини-трактаты, беглые заметки, сюжеты ненаписанных рассказов. Текст отличается своеобразием, богатством мысли и тематики, в нем сочетаются проницательность интеллектуала и впечатлительность поэта.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.