Авангард как нонконформизм - [64]
Ф.Г.: Толстой просто взывает к нам!
А.Б.: Тем более, когда нам сейчас навязывается вся эта норма, цензура, нравственность, «давайте снова говорить про добро»…
Ф.Г.: Толерантность…
А.Б.: Т. е. все эти бандиты, которые во сто крат безнравственнее нас, художников и философов, диктуют нам, о чем мы должны говорить, что мы ни в коем случае не должны говорить об этих болезненных, страшных вещах.
Ф.Г.: Поэтому мы говорим «нет!» толерантности. Мы должны сказать просто: «Мы хотим называть вещи своими именами!».
А.Б.: Раз это есть – значит, есть.
Ф.Г.: Вопреки всему! Вопреки этим запретам на разжигание всякой вражды и др., потому что это касается самого важного в человеке, и никто не имеет права запретить говорить о том, о чем ты можешь, хочешь и должен говорить!
А.Б.: Все в мире состоит из конфликтов, все живое хочет выскочить из системы, из нормы!
Ф.Г.: Мы сейчас проговорили самое главное. Если есть интуиция, чувства, то все в порядке, а остальное (язык, аппарат) – вещи прикладные.
А.Б.: Вторичные вещи… Я рад, Федор Михайлович! Ой! Федором Михайловичем Вас назвал…
Ф.Г.: Леша, выключай аппарат!
Новый нигилизм
Диалог философа Алексея Нилогова и писателя Андрея Бычкова
«Завтра», 12.04.13
Алексей НИЛОГОВ: Андрей, парируя твой ответ, хочу узнать у тебя, как можно заниматься писательством в ситуации, когда русская литература умерла?
Андрей БЫЧКОВ: Я не согласен, что русская литература умерла. Я думаю, что в этой ситуации вторичности и симуляции всех смыслов, в которую мы попали, симулируется и сам дискурс о смерти чего бы и кого бы то ни было – литературы, автора и т. п. Кто-то упорно хочет закруглить все за горизонт. Но ты отчасти прав, русскую литературу сегодня душат и пытают. В качестве палача выступает, прежде всего, социология. Человека выворачивают наизнанку и распинают на плоских смыслах общего дела. Так современность порождает свой особый тип литературы – мертвой, вторичной, морализаторской, и она, как ряска, покрывает собой необъятный русский пруд. Это, конечно, бизнес на морали, это рынок, где в качестве товара выступает так называемая правда, так называемый протест – все, что нужно сейчас гражданину. Но не человеку. Вот почему настоящая литература сейчас снова на дне, в подполье, в тюрьме. Но она жива, пока жив ее источник. Он скрыт глубоко, ему не нужна выгода, не нужна и правда. Он подпитывается трансценденциями искусства. Можно до бесконечности мертвить пропагандой сознание, но нельзя уничтожить – извиняюсь за пафос – дух, покоящийся (или мятущийся) в измерениях бессознательного. Настоящая литература не принадлежит современности, за ней живое прошлое языка и его живое будущее. Пошлость питается правильностью, живая русская литература сегодня все больше попадает под лингвистический радикал.
А.Н.: Я почти со всем согласен. Но обрати внимание: стоило убрать государственную идеологию и пропаганду литературы и чтения, в том числе в школе, как интерес к хорошей литературе резко упал. Какой смысл в искусственном поддержании мотивации к высокой словесности?
А.Б.: Высокая словесность, как и любое художество, пересекает любые границы и воспитывает свободных духом людей. Сегодняшнему государству такие люди не нужны, потому что они опасны. Они отличают фальсификацию от «истины». Государство воспитывает «вторичных» людей, ими проще управлять. Парадокс в том, что и в обществе высокая словесность (и шире – искусство) не востребованы. Общество борется с государством, и обществу нужна только та литература (и искусство), на которую оно может опереться, используя в своей борьбе. Обществу нужна только социальная гражданская литература, которая по определению вторична. Но подлинный художник – не гражданин в своем художестве, он спорит с Богом, он враг общества и друг человека. В других странах ещё сохранился хоть какой-то паритет между «вторичностями» и «первичностями». Во Франции обожают и лелеют своих «проклятых» поэтов и писателей от Бодлера и Рембо до Гийота. И это – дело чести и для общества, и государства. У нас наоборот. Пришедшие к власти либералы используют советскую травму как кувалду, забивают клин тормоза под Джаггернаут исторического колеса во всём – от политики до культуры. И «высокое» уходит от процесса, радикализируется, становится своеобразной сектой. Я думаю, настало время заговорить о «новом русском нигилизме», поднять вопросы об «искусстве для искусства». И общество, и государство, несмотря на взаимную ненависть друг к другу, отягчают и стаскивают с вершин «высшие ценности» (хоть и по разным склонам), и смешивают их с «низшими», с «прикладными». Это фундаментальный порок демократии. Она должна бы дополнять горизонталями вертикаль и расширять размерность «пространства современности», а не превращать все и вся в бездарную плоскостность. А если перевести этот разговор в разрез философского дискурса, то, как ты думаешь, есть ли ещё у нашего общества ресурс к «высшим ценностям»? И в чём он? Про государство сразу молчу.
А.Н.: Андрей, твой вопрос относится к сфере духовного досуга. А каким ещё может быть досуг? Не труд, а именно досуг сделал из обезьяны человека. (Да простят мне этот перевертень дарвинизма.) Несмотря на то, что у современного человека слишком много свободного времени (это отнюдь не оксюморон!) – в четыре раза больше, чем у людей начала XX века, – многие чувствуют, что они задыхаются из-за цейтнота. Поэтому я спрашиваю, почему мы должны оставить всяческие попытки философизации? Потому что философия – это удел избранных, среди которых немало тех, кто философствует от избытка. Невозможно привить любовь к высшим ценностям, так как с этим изъяном нужно родиться, чтобы дарить и не делаться от этого беднее. Нам остаётся одно занятие – прилагать все силы к тому, чтобы сохранять духовный оптимум, благодаря которому можно подпитывать собственный интеллектуальный гомеостаз.

«Он зашел в Мак’Доналдс и взял себе гамбургер, испытывая странное наслаждение от того, какое здесь все бездарное, серое и грязное только слегка. Он вдруг представил себя котом, обычным котом, который жил и будет жить здесь годами, иногда находя по углам или слизывая с пола раздавленные остатки еды.».

«Легкая, я научу тебя любить ветер, а сама исчезну как дым. Ты дашь мне деньги, а я их потрачу, а ты дашь еще. А я все буду курить и болтать ногой – кач, кач… Слушай, вот однажды был ветер, и он разносил семена желаний…».
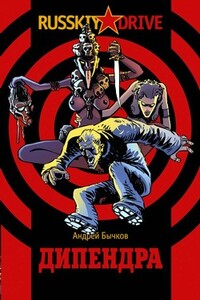
«Он взял кольцо, и с изнанки золото было нежное, потрогать языком и усмехнуться, несвобода должна быть золотой. Узкое холодное поперек языка… Кольцо купили в салоне. Новобрачный Алексей, новобрачная Анастасия. Фата, фата, фата, фата моргана, фиолетовая, газовая.».
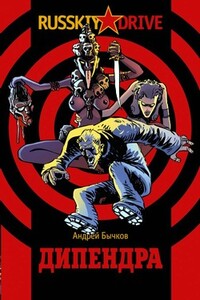
«А те-то были не дураки и знали, что если расскажут, как они летают, то им крышка. Потому как никто никому никогда не должен рассказывать своих снов. И они, хоть и пьяны были в дым, эти профессора, а все равно защита у них работала. А иначе как они могли бы стать профессорами-то без защиты?».
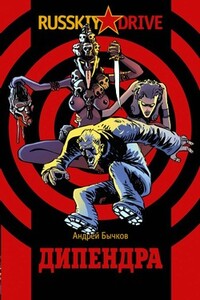
«Признаться, меня давно мучили все эти тайные вопросы жизни души, что для делового человека, наверное, покажется достаточно смешно и нелепо. Запутываясь, однако, все более и более и в своей судьбе, я стал раздумывать об этом все чаще.».

«Знаешь, в чем-то я подобна тебе. Так же, как и ты, я держу руки и ноги, когда сижу. Так же, как и ты, дышу. Так же, как и ты, я усмехаюсь, когда мне подают какой-то странный знак или начинают впаривать...».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.