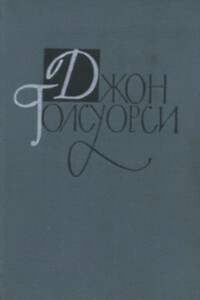Астарта (Господин де Фокас) - [27]
20 сентября. — Венеция! Мне казалось однажды, что там я встретил скорбный, преследующий меня взгляд, этот изумрудный, волнующий меня взгляд, который превратил меня в несчастного, потерявшего равновесие безумца.
Я вспоминаю. Это было в больнице, в отделе венерических больных, среди тяжкой атмосферы большой залы с известковыми стенами и окнами, накаленными прекрасным полуденным солнцем. Она лежала, покрытая сомнительно-белыми больничными покрывалами, и ее рыже-красные волосы, разметанные на подушках, еще подчеркивали желто-землистый цвет лица сифилитички. Она лежала недвижная, молчаливая, среди шума, едва стихшего при нашем появлении, двадцати других женщин, — двадцати выздоравливающих, или несерьезно больных, столпившихся в рубашках вокруг стола, загроможденного стаканчиками, кубиками и картами; все здоровое население залы предавалось оживленной игре в лото. Лишь одна больная, бледная как воск, не шевелилась, не произносила ни слова. Но между ее полусомкнутых ресниц сверкал кристалл зеленоватой и позлащенной воды, печально дремлющей и опаленной светом, как ложе темного источника в полуденный час; и в то же время такая скорбная улыбка сводила бледные поблекшие губы и углы изможденных век, что на мгновение мне блеснул взгляд бесконечной утомленности и безумного экстаза глаз Антиноя и старинной пастели.
Я склонился с любопытством над постелью: лицо утомленно вытянулось, глаза закрылись. «Одна из мучающих ее спазм, — пояснил нам сопровождавший нас медик, — у нее язва яичников: она обречена».
Скорбный изумруд блеснул только на мгновение — только на мгновение выглянул взгляд Астарты из-за края век, на мгновение моя душа приблизилась к моим устам; в бескровном лице умирающей была, я помню, та же зеленоватая прозрачность, что и в восковом бюсте Анжелотто. Странное совпадение, — два взгляда умирающих, ибо и он и она были уже поражены, обречены на смерть!
Эти зеленые и страстные глаза, я видел их еще однажды…
Это было в Константине, в той улице Лестниц, кишащей проститутками, которая спускается прямо к реке Руммель.
Переходя из одной мавританской кофейни в другую, из испанского кабачка в мальтийский погребок, — мы как-то попали в этот странный притон курильщиков опиума… Резкий, монотонный напев флейт прорезал воздух и посреди кружка арабов на корточках, плясали, странно переплетаясь ногами, два бескровных существа с потухшими глазами, гибкие, как ужи.
О! отчаянные, почти судорожные призывы этих высохших рук над этими застывшими лицами! Подрисованные глаза, намалеванные щеки, — они извивались, неподражаемо гибкие среди волн газа и тюля, вышитых золотом, — одетые, как женщины, содрогаясь от времени до времени всем своим телом, словно от электрического тока. Вдруг один из танцующих замер на месте в оцепенении с пронзительным диким криком и в его закатившихся глазах я увидал тот же зеленый блеск… Я бросился к нему и схватил его за руку: он был без чувств, пена выступила на губах. Это был эпилептик — и что того хуже — несчастный слепец, кабильский танцовщик, истощенный пороками и чахоткой, осужденный в скором времени на смерть.
Венецианка в Госпитале была также приговорена к смерти… Уж не влюбляюсь ли я только в умирающих? Какое-то непреодолимое и ужасное обаяние влечет меня ко всему, что страдает и что умирает! Никогда еще я не читал так ясно в самом себе. Этот неизгладимый порок моей больной души был разгадан Эталем в тот вечер, когда он показал мне сначала куклу, а затем этот восковой бюст, в котором я нашел воплощенными ту скорбь и те страдания, которые меня привлекают больше всего.
Маленький кабильский танцовщик, умирающая венецианка, чахоточный натурщик с Монмартра — все они одной породы, и этот англичанин читает в моей душе, как в открытой книге, обо всех ее злосчастных склонностях. Как я его ненавижу.
28 сентября. — Я уже не уезжаю; я увидал Эталя, и этот человек снова забрал меня под свою власть. Я кончал запаковывать мои сундуки и, стоя у стола, заворачивал трости и зонтики в дорожную укладку, когда на мое плечо опустилась чья-то рука и насмешливые губы пробормотали:
Это был он, — он догадался, что я уезжаю: каким образом? Можно подумать, что у этого человека двойное зрение: «Вы его не найдете, — сказал он, легким жестом указывая на свои блестящие глаза, — этот взгляд внутри вас и у других вы его не найдете. — Поезжайте в Сицилию, в Венецию, даже в Смирну, — ах, вы больны и повсюду ваша болезнь последует за вами. Вы ищете взгляд музейный, мой друг; и гнилая цивилизация большого города, подобного Парижу или Лондону, только она одна может вам его предложить. Почему хотите вы сбежать в разгар лечения? Разве вы можете на меня в чем-нибудь пожаловаться? Вас уже не преследуют больше маски, и если учащаются припадки желания убить, вы уже не падаете в обморок по ночам, хрипя и ловя призраки. Я спас вас от видений, возвратив вас к инстинкту, ибо это прекрасный и могучий природный инстинкт — инстинкт убийства — такой же, как и священный инстинкт любви.

«Принцессы ласк и упоения» Жана Лоррена (1902) — составленный самим автором сборник его лучших фантастических рассказов и «жестоких сказок», рисующих волшебный мир, отравленный меланхолией, насилием и болезненным сладострастием.Ж. Лоррен (1855–1906) — поэт, писатель, самозваный денди, развратник, скандалист, эфироман и летописец Парижа «прекрасной эпохи» — был едва ли не самым одиозным французским декадентом. По словам фантаста, переводчика и исследователя декаданса Б. Стэблфорда, «никто другой таким непосредственным и роковым образом не воплотил в себе всю абсурдность и помпезность, все парадоксы и извращения декадентского стиля и образа жизни».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Речь в этой истории пойдет о Джеке Мартине, одном из самых жизнерадостных и приятных джентльменов, который при всех своих достоинствах питал слабость к прекрасному полу и различного рода горячительным напиткам, будь то виски, эль или пунш. Джеку все это было нипочем. Он мог перепить любого и отправиться домой, даже не пошатываясь.И вот однажды возвращаясь поздно из гостей, наш герой забредает на пустырь со старыми, поломанными почтовыми каретами. Где ночью закипает жизнь и появляются откуда ни возьмись пассажиры, кондукторы, носильщики, а кареты вновь колесят как новые.

Настоящим сборником Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда открывается публикация наиболее полного собрания малой прозы писателя. Впервые все опубликованные самим Фицджеральдом рассказы и очерки представлены в строгом хронологическом порядке, начиная с первых школьных и университетских публикаций. Тексты публикуются в новых аутентичных переводах, во всей полноте отражающих блеск и изящество стиля классика американской литературы Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».