Артамошка Лузин. Албазинская крепость - [4]
— Не стоит?..
— Не стоит, а кругла-де она, велика и находится в вечном кружении, плавая в небесах, как рыба преогромная в море-океане плавает и не тонет…
— Диковинно мне это, брат, но опять же умом своим я разумею так: от этого земного кружения, видимо и на земле все скружилось и перепуталось. И одним богатство валится, как из преогромной бочки, другие же в трудах маются и, животы поджав, лохмотьями землю метут…
— По той черной книге, Земли кружение вечно, и удержать его не можно.
— А бог?
— По той черной книге, о боге слов нет, и место ему не найдено.
— Да ты в уме?
Оба задумались.
— Смотри, Никанор, — свирепо сдвинул брови Филимон, — царя сквернишь — то можно, бояр-мучителей да воевод с палачами ругаешь — то можно, то мне по душе, а вот бога не тронь!
Никанор хорошо знал нрав своего брата, испугался:
— Бога… не шевелю, да и как его пошевелишь, ведь он бог! От злых людей надобно хорониться, а богу воздавать должное, жить смиренно, праведно…
Братья покосились на маленькую иконку, что висела в углу, засиженном сплошь мухами, и размашисто перекрестились.
За дверями послышался шум. Братья оглянулись. Маланья, открыв дверь, тащила за руку Артамошку. Мальчишка пятился, не хотел идти. Вихрастая голова его была взлохмачена, лицо в крови. Большие отцовские сапоги и длинная, не по росту, казацкая кацавейка густо вымазаны в грязи. Артамошка упирался, но мать, крепко вцепившись, тащила его через порог.
Филимон гаркнул на всю избу:
— Обмой бродягу, я его поучать стану!
Мать смыла с лица Артамошки грязь. Остатками гусиного сала смазала распухший нос, толкнула к отцу.
— Кто? — спросил отец.
— Селивановы ребятишки.
— Оба?
— Оба.
— За что?
Мальчик молчал.
— Говори! — не унимался отец, зная, что сын что-то скрывает.
Артамошка раскраснелся и зашлепал вспухшими губами:
— Селивановы Гришка да Петрован проходу не дают, орут принародно: «Твоему отцу зубы вышибли. Теперь ты, Артамошка, не Лузинов сын, а Свистунов». А меньшой, Гришка, на одной ноге скакаючи, лопочет:
Артамошка не договорил, заплакал.
— Сопляк! — стукнул Филимон кулаком по столу и так топнул ногой, что полетел с полки горшок и рассыпался мелкими черепками. — Давно селивановские на рожон лезут! — крикнул он и схватился за топор.
Никанор пытался удержать его:
— Не казни сердце, не горячи кровь! Селивановы — купцы, хоть и мелки, но на виду у самого воеводы, тягаться с ними нам не в силах… Засекут, ей-бо, на площади засекут воеводские палачи!
Маланья вцепилась в Филимона — не пускала из избы.
Филимон бросил топор, потряс кулаками в воздухе и бессильно опустился на землю. Артамошка шмыгнул на печку и притих. Потрогав распухший нос, прошептал:
— Гришку на кулаки вызову, с Петрованом силой померяюсь! В одиночку-то они трусоваты.
На печи он согрелся и сладко задремал. Сквозь полусон услыхал стук. Выбежав из избы, Артамошка увидел отца за работой. У потухшего горна, на обожженном бревне, в ряд лежали свежеотточенные ножи. Артамошка сосчитал — девять штук. Отец тесал топором, заготовлял к ним березовые рукоятки. Не утерпел Артамошка, схватил один ножик. Остер, лезвие как жар горит.
— Не тронь! — прикрикнул Филимон. — Я тебе, озорник!
Артамошка заметил, что у отца густые брови сошлись до самой переносицы. «Зол отец… Лют и зол, — подумал Артамошка. — Быть беде». Он положил ножик и ушел от отца обиженный. Потом опять забрался на печь, даже ужинать не стал.
Он слышал, как отец, вернувшись в избу, говорил:
— Побью!.. Погромлю!..
— Не надо, Филимон, — упрашивала, всхлипывая, мать. — Воеводские наушники прознали про твои угрозы, не сносить головы… Бежать тебе надо, спасаться!
— А ты?
— Что я! — вздохнула мать. — Мне одна судьба — маяться, обиды сносить.
— Долго ли сносить обиды воеводских мучителей! — не унимался отец.
«Драка! — обрадовался Артамошка. — Селивановых, наверно, отец лупить будет. Вот потеха!..»
— Сожгу! — грозился отец.
— Побойся бога, не надо! — уговаривала мать.
Певчая пташка
Под утро всполошился городок. Тревожно бил церковный колокол. Заревом полыхало небо. Горела изба возле воеводского дома. Артамошка бросился к оконцу, но мать загнала его обратно на печь. Вскоре заскрипела дверь, послышался шепот:
— Прощайся, Филимон, бежим!
Мать плакала. Отец склонился к Палашке. Девочка вцепилась ему в бороду и спросонья смеялась.
— Артамошка, прощай! — сказал отец.
— Куда, тятька?
— В леса густые, где ребятушки удалые.
— Возьми меня!
— Мал.
Попрощался Филимон с Маланьей, вскинул котомку на спину, сунул топор за пояс. И отец, и мать, и вошедшие в избу мужики сели на лавки, посидели с минуту, встали, сорвали с голов шапки, низко поклонились в угол, где висела икона, и быстро вышли из избы.
Артамошка приметил: у каждого мужика из-за пояса виднелась рукоятка ножа отцовской работы.
Больше не видел Артамошка отца. Он сперва даже обрадовался: «Теперь я как большой, как мужик настоящий, — что желаю, то и делаю».
Но скоро настала горькая жизнь. Мать с утра уходила на работу и возвращалась поздно вечером, а Артамошка должен был сидеть в избе и нянчить Палашку. Никуда нельзя сбегать Артамошке — ни на реку, ни в лес, ни на площадь. Лишь по воскресным дням усталая мать разрешала:
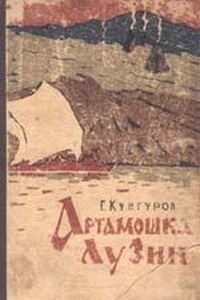
В повести «Артамошка Лузин» перед читателями предстает сибирский городок XVII века с маленькими покосившимися домишками, разбросанными, точно кочки по большому болоту, в окружении царских кабаков и обжорок. А рядом стеной стоит нетронутая дикая тайга.Как жили обитатели Иркутского острога, кто правил в нем, каков быт и нравы эвенкийского народа, что связывало Артамошку Лузина с эвенкийским мальчиком — об этом вы узнаете из повести.
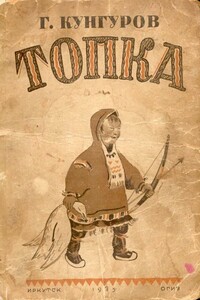
Повесть о талантливом эвенкийском мальчике Топке. С первых же страниц вы ощущаете шорохи таежного леса, слышите легкий треск веток — и сразу же веет чем-то непривычным, чуточку экзотичным.Рисунки художника Н. А. Андреева.

Историческое повествование об освоении Сибири и Дальнего Востока.Построил когда-то на Амуре даурский князь Албазы кочевой городок, но разрушил его казак Черниговский, а на месте городка возвел крепость. Стали ту крепость называть Албазинской. Вот в нее-то и привел по Амуру свою дружину Ярофей Сабуров. Неспокойный у него характер, не может он долго оставаться на одном месте, тянет его на простор. Верилось ему: там, где-то за нехоженой тайгой есть неведомая, счастливая земля. Превыше всего для Сабурова казачья вольница, но в глубине души его живет гордость русского человека, готового даже жизнь отдать ради славы и чести Родины.
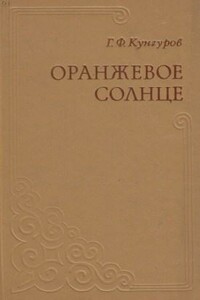
Старейший писатель-сибиряк Г. Кунгуров — автор популярных исторических повестей «Артамошка Лузин», «Албазинская крепость», романа «Наташа Брускова», сборника рассказов «Золотая степь», сказок.«Оранжевое солнце» — повесть о современной Монголии. Герои ее — прославленный пастух Цого, внуки его Гомбо и Эрдэнэ.Повесть говорит о вечной мудрости народа. Новое не отметает старое и бережно хранится.
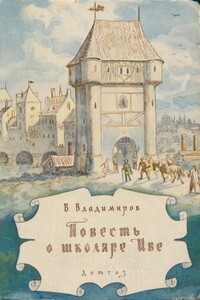
В книге «Повесть о школяре Иве» вы прочтете много интересного и любопытного о жизни средневековой Франции Герой повести — молодой француз Ив, в силу неожиданных обстоятельств путешествует по всей стране: то он попадает в шумный Париж, и вы вместе с ним знакомитесь со школярами и ремесленниками, торговцами, странствующими жонглерами и монахами, то попадаете на поединок двух рыцарей. После этого вы увидите героя смелым и стойким участником крестьянского движения. Увидите жизнь простого народа и картину жестокого побоища междоусобной рыцарской войны.Написал эту книгу Владимир Николаевич Владимиров, известный юным читателям по роману «Последний консул», изданному Детгизом в 1957 году.

Роман основан на подлинных сведениях Мухаммада ат-Табари и Ахмада ал-Балазури – крупнейших арабских историков Средневековья, а также персидского летописца Мухаммада Наршахи.

Роман является третьей, завершающей частью трилогии о трудном пути полковника Генерального штаба царской армии Алексея Соколова и других представителей прогрессивной части офицерства в Красную Армию, на службу революционному народу. Сюжетную канву романа составляет антидинастический заговор буржуазии, рвущейся к политической власти, в свою очередь, сметенной с исторической арены волной революции. Вторую сюжетную линию составляют интриги У. Черчилля и других империалистических политиков против России, и особенно против Советской России, соперничество и борьба разведок воюющих держав.
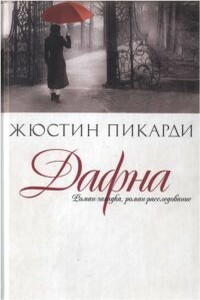
Британские критики называли опубликованную в 2008 году «Дафну» самым ярким неоготическим романом со времен «Тринадцатой сказки». И если Диана Сеттерфилд лишь ассоциативно отсылала читателя к классике английской литературы XIX–XX веков, к произведениям сестер Бронте и Дафны Дюморье, то Жюстин Пикарди делает их своими главными героями, со всеми их навязчивыми идеями и страстями. Здесь Дафна Дюморье, покупая сомнительного происхождения рукописи у маниакального коллекционера, пишет биографию Бренуэлла Бронте — презренного и опозоренного брата прославленных Шарлотты и Эмили, а молодая выпускница Кембриджа, наша современница, собирая материал для диссертации по Дафне, начинает чувствовать себя героиней знаменитой «Ребекки».

«Впервые я познакомился с Терри Пэттеном в связи с делом Паттерсона-Пратта о подлоге, и в то время, когда я был наиболее склонен отказаться от такого удовольствия.Наша фирма редко занималась уголовными делами, но члены семьи Паттерсон были давними клиентами, и когда пришла беда, они, разумеется, обратились к нам. При других обстоятельствах такое важное дело поручили бы кому-нибудь постарше, однако так случилось, что именно я составил завещание для Паттерсона-старшего в вечер накануне его самоубийства, поэтому на меня и была переложена основная тяжесть работы.
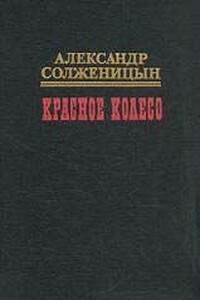
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.