Арийский миф в современном мире - [3]
При анализе разнообразной художественной литературы акцент делается не на высоких образцах интеллектуальной мысли, а на популярных произведениях, предназначенных для массового читателя. Ведь именно такие произведения, как это признано рядом специалистов, с одной стороны, отражают, а с другой – формируют общественное мнение (Пайпс 2008: 75; Биберштайн 2010: 23).
Работа состоит из нескольких частей. Во-первых, с опорой на западную историографию анализируется история формирования и развития арийского мифа на Западе в течение XIX – первой половины XX в. Во-вторых, проводится исследование арийского мифа в России. Это включает его историю начиная с XIX в., его современное бытование как в интеллектуальном дискурсе (СМИ, художественная литература, программы и заявления радикальных политических движений), так и в практике политических радикалов и, наконец, его этнополитическую вариативность на местах, где он используется для выковывания новых идентичностей. Анализируется ксенофобское содержание арийского мифа. В-третьих, определенное внимание уделяется роли арийского мифа в контексте неоязыческих и эзотерических учений в России и на Украине. В-четвертых, рассматривается формирование новых национальных идентичностей в постсоветских государствах Центральной Азии, где образ предков также включает апелляцию к «арийской древности». В-пятых, анализируются особенности формирования и бытования арийского мифа в Индии начиная со второй половины XIX в.
Глава 1
Рождение и эволюция арийского мифа
Романтизм и индийский соблазн
База современной науки закладывалась в XVIII в., когда справедливые сомнения в надежности библейской традиции, с одной стороны, порождали поиски в самых разных направлениях и вели к становлению научных дисциплин, но, с другой, способствовали появлению самых нелепых теорий, одно время имевших широкий спрос у любознательной европейской публики. Именно в 1777–1778 гг. французский астроном аббат Жан-Сильвен Байи поделился с Вольтером своими фантазиями о существовании древнейшей цивилизации в Сибири, куда ее создатели пришли якобы из Арктики (Байи 2003). Но еще большей популярностью пользовалось представление о происхождении высокой культуры из Индии, о чем наперебой тогда сообщали философы, натуралисты и писатели. В этом контексте Библия виделась вторичным источником, отраженным светом, доносившим в искаженном виде обрывки древней мудрости, исходившей когда-то из Индии. В конце XVIII в. это поветрие, позволявшее успешно отвергать поднадоевший иудеохристианский миф, не оставило равнодушными даже таких титанов мысли, как Кант и его ученик Гердер.
Отчасти речь шла о формировании новых основ европейской идентичности: христианская идентичность отступала, сменяясь национальной, а затем – расовой. Отчасти же можно говорить о сопротивлении эмансипации евреев, которой настоятельно требовала наступавшая эпоха. В этом плане и надо понимать причины нападок на иудаизм, которыми полна европейская литература рубежа XVIII–XIX вв. и первой половины XIX в. В писаниях ряда европейских интеллектуалов это выражалось в решительном отказе от поиска своих корней на Ближнем Востоке. Однако это вовсе не подрывало их убеждения в том, что истоки генеалогии лежали в таинственных экзотических странах Азии, где с упоением искали то «благородного дикаря», то «мудрого философа». Там же усматривали и источник «первобытного монотеизма», впоследствии пережившего упадок, искаженного и давшего начало политеистическим религиям. Так европейская мысль и открыла для себя «арийского человека» (Поляков 1996: 198–203).
Одним из первых философов, кто был очарован Индией и видел в ней источник человеческой мудрости, был Вольтер. Он полагал, что именно там возникла древнейшая (ведическая) религия и именно туда за выучкой ездили египетские жрецы и китайские мудрецы. Основываясь на рассказах иезуитов, он даже верил в то, что в Древней Индии существовала монотеистическая традиция, предшествовавшая христианству и насчитывавшая не менее 5 тыс. лет3. А так как в Библии об Индии ничего не говорилось, это помогало вольнодумцу Вольтеру поставить под сомнение христианскую истину и всячески поносить иудеев за их «предрассудки» и «иррационализм». Это также позволяло ему заявить, что европейцы ничем не обязаны древним израильтянам, которые, по его убеждению, многие из своих священных знаний просто украли у арийцев, библейских Гога и Магога. Кроме того, сопоставление «исконных ведических источников» с современной ему Индией привело Вольтера к идее о деградации, которую якобы испытали арийцы в Индии (Figueira 2002: 10–18). Лишь позднее было установлено, что, на свою беду, Вольтер излишне доверился поддельному тексту, созданному в своих целях иезуитами (Trautmann 1997: 72).
И. – Г. Гердер тоже не избежал индийского соблазна. Но он шел еще дальше и делал примыкающие к Северной Индии высокие горы прародиной всего человечества. Хотя он никогда не бывал в Индии, он наделял индийцев всеми возможными добродетелями, видя в них идеал «благородного дикаря». Однако, восхищаясь Индией, он ценил ее поэзию больше, чем ведическую литературу. Ведь в поэзии он усматривал подлинную «душу народа». Зато он с пессимизмом смотрел на перспективу открытия исконных религиозных текстов, полагая, что дошедшие до нас были сильно модифицированы и искажены в ходе истории. Подобно Вольтеру, он был убежден в деградации пришельцев, попавших в Индии под влияние местных племен с их примитивным тотемизмом (Гердер 1977: 305–310. Об этом см.: Figueira 2002: 19–22).
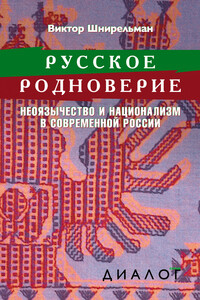
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.

Как обретают историческую генеалогию феномены современной политики и идеологии? Чья память доминирует на многоуровневом имперском и постимперском пространстве и как обеспечивается это доминирование? Что характерно для культуры памяти в посткоммунистических обществах? На эти и другие вопросы отвечают статьи профессиональных историков, собранные в книге «Империя и нация в зеркале исторической памяти».
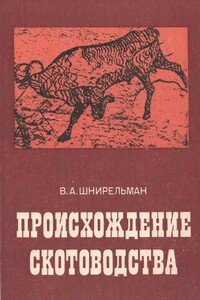
В книге рассказывается о становлении и эволюции раннего скотоводства как одного из главных направлений производящего хозяйства в первобытном обществе. Исследуются природные и культурные предпосылки перехода к скотоводству, возникновение первичных и вторичных его очагов. Показана роль скотоводства в развитии процессов социальной и имущественной дифференциации, в развитии культуры и религиозных представлений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
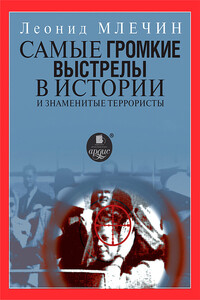
Самые громкие выстрелы звучат, когда происходят политические убийства. Некоторые из них меняют судьбы целых народов. В серии исторических очерков, объединённых под названием «Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы», известный журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин рассказывает о самых известных политических убийствах и терактах, унесших жизни значительных государственных и политических деятелей разных стран и повлиявших на ход дальнейшей истории.
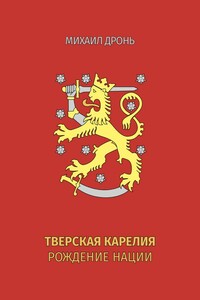
Книга охватывает четыре столетия истории народа тверских карел – с момента переселения их в пределы Тверской области и до испытаний последних лет. Автор прослеживает непростую и временами трагическую жизнь карел Тверщины и старается найти ответы на актуальные вызовы времени. Проблемы языка, самоопределения и государственности как никогда остро стоят перед карельским народом, и от выбранных решений будет зависеть ни много ни мало сохранение этноса и будущее Тверской Карелии.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.
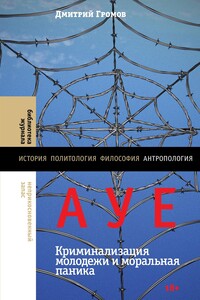
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.
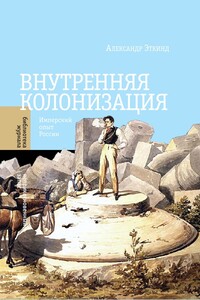
Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.
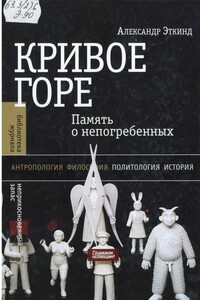
Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.
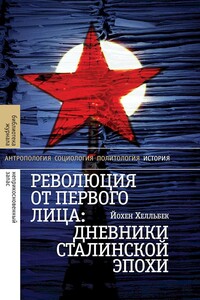
Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.