Арест - [2]
Внизу что-то зашуршало: старая Марта вытирала пыль в гостиной, как всегда, напевая себе под нос какую-то песенку.
- Я больше не могу, - повторила госпожа Оппенгейм. - А ведь ты был активистом... агитировал за них.
Абрахам потупился: он терпеть не мог напоминаний о том, как он, старый человек, маршировал с жёлтым могендовидом на рукаве, и вскидывал руку в нацистском приветствии.
- Я думал о нашем народе, - как обычно, ответил он. - Я думал, что немцам нельзя больше доверять власть. После той войны, которую они развязали. После поражения. После революции. После этой пародии на республику, как будто немцы могут жить при республике... Я думал, что мы, евреи, наконец должны исполнить свою историческую миссию, возглавить эту страну, вывести её из этого европейского Египта... И что наша религия, наконец, возрождается. Я никогда не был особенно религиозным, но когда я видел, как по всему Берлину горят ханукальные свечи - моя душа пела... Мы все ошибались, - горько закончил он. - Теперь я думаю, что социал-демократы были во многом правы. Нацистов привели к власти крупные немецкие тузы. Они прикрылись нашим народом, как грязным носовым платком, чтобы снова обделывать свои обычные дела.
Абрахам помолчал.
- Не знаю, когда я это понял. Наверное, когда я впервые увидел полицейского, бьющего еврея с криком "Учи Тору". Или когда мне впервые не пустили в кафе в субботу. Или когда...
Рахиль посмотрела в лицо мужу.
- Как ты думаешь, будет война? - тихо спросила она.
Абрахам пожал плечами.
- Ещё месяц назад я сказал бы "нет". Сказал бы, что они не безумцы воевать с Англией ради никому не нужного клочка земли. Но... знаешь, вчера я шёл мимо школы. На плацу стояли дети. Немецкие дети. Они просто стояли с поднятыми руками, и кричали. Знаешь, что они кричали? И как они это кричали?
- "В следующем году в Иерусалиме", - прошептала Рахиль. - "В следующем году в Иерусалиме".
- Им нужен повод, - заключил Абрахам. - Им нужен только повод. Защита еврейского народа, ихуй* между немцами и евреями - это повод. Иерусалим тоже повод.
Внизу что-то упало и покатилось. Госпожа Оппенгейм вздрогнула.
- Не будем больше об этом... Хотя бы сегодня, Абрахам, не будем, нервно сказала она, и тут же продолжила: - Я была у Руфи. И слышала... страшные вещи. О "специальных поселениях". Где евреев заставляют соблюдать все шестьсот тринадцать мицвэс. Насильственно заставляют. И про господина Гринберга. Ты знаешь, что с ним сделали?
- Я запретил тебе ходить к Руфи! - взвился Абрахам, но сник под тяжёлым взглядом жены.
- Я ходила к Руфи, - продолжала Рахиль, не отводя глаз, - и она показал мне... письмо. Это был грязный клочок бумаги. Но это был почерк Эриха, слышишь! Это был почерк Эриха Гринберга!
- Эрих Гринберг был коммунистом, предателем еврейского народа, Абрахаму казалось, что он слышит свои слова как бы со стороны. Он провёл рукой по лицу, но ощущение не исчезло. - Ты же знаешь, он не скрывал своих убеждений, и...
На первом этаже раздался шум, звон разбитого стекла. Марта ойкнула. Потом шум повторился.
Господин Оппенгейм оттолкнул окаменевшую от страха жену и бросился в кабинет.
Он как раз пытался засунуть в камин тетрадку в сафьяновом переплёте, когда дверь распахнулась, и вошли люди в чёрно-жёлтой форме.
* И'хуй (ивр.) - "сращивание", "соединение".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Лукьяненко и другие ведущие российские фантасты в сборнике повестей и рассказов, продолжающих легендарные произведения Аркадия и Бориса Стругацких! Новые приключения Саши Привалова, Витьки Корнеева, профессора Выбегалло, Кристобаля Хунты и других магов – сотрудников знаменитого Научно-Исследовательского Института Чародейства и Волшебства!

Жёсткая SF. Параквел к сочинениям Стругацких. Имеет смысл читать тем, кто более или менее помнит, что такое Институт Экспериментальной Истории, кто такие прогрессоры и зачем нужна позитивная реморализация.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
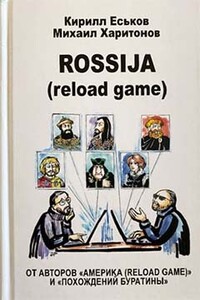
Историческое повествование в жанре контрреализма в пяти частях, сорока главах и одиннадцати документах (негарантированной подлинности), с Прологом (он же Опенинг) и Эпилогом (он же Эндинг).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бригадир Зардаков после селевых потоков, которые обрушились на его поля с посеянным хлопком, случайно обнаружил пещеру, которая вывела его в параллельный мир. А почему бы и здесь не посеять хлопок? — подумал он тогда…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вокруг дома доктора Миндена бродит толпа фанатиков и ищет женщину, несущую в себе зловредное семя, чтобы убить ее. А в это время дочь доктора, четырехлетняя Джинни, требует, чтобы ей сделали три тысячи семьсот восемь бутербродов с арахисовым маслом.
