Арена XX - [2]
Берг не отличался приметами Сирано, но, надо сказать, никакой нос не вместил бы столько сахару, сколько он себе насыпал. Мужчины-сладкоежки пользуются дурной репутацией с тех пор, как на авасцену вышла психология. Рауль Синяя Борода у Шарля Перро свирепо пожирал кабанью голову; Рауль Синяя Борода у Метерлинка будет пить какао и слизывать персиковый джем с булочки.
Николай Иванович съедал на обед кабанью голову кофейного торта; на простыне у него всегда имелись подозрительные следы, своим происхождением обязанные молочному шоколаду. (А матрасовка и вовсе напоминала шкуру гепарда.)
Но бывает, что человек вынужден заказать пиво. Тогда Николай Иванович спрашивал «белое берлинское красное» – это «дитя Берлина» («Berliner Kindl») подается в вазочке, наподобие мороженого с сиропом.
Официант сожалеет: в кафе «У оперы» кончился малиновый сироп – средь бела дня!
– Мм… Хорошо, пшеничное «хрустальное». (Плавающая в нем долька лимона с цедрой сойдет за мармеладку «лимонная долька».)
– Один «Кристалл», один «Бек’с», – повторил официант.
– Так вот, попомните, что я вам говорю, – поучал Берг Давыда Федоровича. – Время опер в переводах прошло. И Гуно, и Бизе, и Массне скоро будут даваться по-французски. Это профанация, когда Эскамильо поет:
Несколько дам за соседними столиками обернулись, на что Берг раскланялся, приподнявшись, и продолжал с совершенно невозмутимым видом:
– Мелодия речи. Петь оперу не на языке оригинала это как выставлять фальшивого Леонардо да Винчи. А кто не понимает в оригинале, пусть клянет свою судьбу. Представляете себе, Герман запел бы: «Soll der Pechvogel weinen»[1].
Это сердило Давыда Федоровича, который пошутил: «Даже если в Берлине разразится чума, не уеду. Здесь, слава Богу, разучиваешь с певцами их партии по-немецки». Дома в Динабурге говорили только на жаргоне. Никакой тоски по Петрограду у него нет. Хоть и кончил консерваторию у Есиповой, кто бы его, еврея, взял солорепетитором в императорскую оперу?
– А пошли б?
– В императорскую – пошел бы.
– Коррепетитором, тапером, винтиком?
– Сильно заблуждаетесь. Работа с певцами, с замечательными певцами, дело творческое, требующее большой внутренней отдачи. И потом не сбрасывайте со счетов возможность иногда становиться за дирижерский пульт. В портфеле каждого солорепетитора лежит дирижерская палочка.
– От души желаю вам дирижировать «Кармен», которую поют по-немецки: «Там ждет тебя-я-я любовь!» Почему это они так на меня оглядываются?
– Потому что вы, Николай Иванович, ведете себя вызывающе. Известно, что они зовут «любовью».
Самого Давыда Федоровича, успешно выдавившего из себя раба условностей, это не смущало. А коллег по служению музам поблизости нет, в этом он поспешил убедиться, едва увидал Берга. «А, Давыд Федорович! Ну, с собутыльничком вас», – и плюхнулся на стул рядом.
«А вдруг я кого-то жду», – подумал Давыд Федорович и в отместку решил позволить Бергу за себя заплатить. Посмотрим, сколько этот артист жизни даст на чай.
«Артист жизни» – Берг сам так отрекомендовался в первый же вечер, на вопрос о роде занятий, в сущности, бестактный: ну как можно у эмигранта такие вещи спрашивать, эмиграция сама по себе уже род занятий, причем достаточно унизительный. Не каждый может, как Давыд Федорович, сказать о себе: «Вы знаете, служу в “Комише Опер”» – мол, как это вышло, сам не разберу, близорук-с.
Трудно себе представить, чтобы немецкая публика когда-нибудь променяла родную скороговорку «Фигаро здесь, Фигаро там» на непонятное бульканье. Берг нес чушь – Ашер смотрел в будущее с уверенностью. Тем больше ему не давал покоя апломб Берга. Давыд Федорович испытывал навязчивую потребность в подыскании контраргументов.
«“Сердце красавицы склонно к измене”, “Люди гибнут за металл”, это уже почти фольклор. Сбрить целый культурный пласт ради иллюзии, что ты в миланской “Скале” и на сцене Титта Руффо… или ради иллюзии самого поющего, что он – Титта Руффо? Берлинец не тает при мысли о Милане. Для него заграница не приманка. Ну, в крайнем случае, забавный зверинец, Zoo, где обезьяны непристойно демонстрируют концы туловища, где верблюд работает под сфинкса, где сидят орлы подобьем вечности, уж и не чая благополучного исхода. Да чушь собачья! Немцы цветут здоровьем, у них с пищеварением то, что доктор прописал – в отличие от орлов. Шмитт-Вальтер не будет тебе петь по-итальянски с немецким акцентом, и чтоб в программке стояло: “Il Barbiere di Siviglia”. Будет написано: “Севильский цирюльник”! Кровное, свое, с детства привычное, без этого родная речь обеднела бы. И во имя чего? Ради перевираемых слов, не понятных ни поющим, ни слушающим, включая самих итальянцев? “Смьейсья, паяйц”. Какая там, к черту, мелодия итальянской речи!»
Давыд Федорович про себя распалялся – дорожил своим местом под берлинским солнцем. Хотя на провокации не поддавался и в споры не вступал. Но Берг нащупал болевую точку – тот в сердцах проговорился: «Окажусь на улице, стану играть по кабакам».
Те, которые «мольто симпатико» (выражаясь на языке оригинала), и те, которые «мольто антипатико», наделены равной притягательной силой, вторые будут даже попритягательней – особенно для людей, нетвердо ступающих по жизни, вроде Давыда Федоровича.
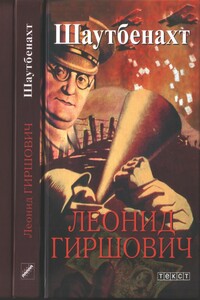
В новую книгу Леонида Гиршовича вошли повести, написанные в разные годы. Следуя за прихотливым пером автора, мы оказываемся то в суровой и фантасмагорической советской реальности образца семидесятых годов, то в Израиле среди выехавших из СССР эмигрантов, то в Испании вместе с ополченцами, превращенными в мнимых слепцов, а то в Париже, на Эйфелевой башне, с которой палестинские террористы, прикинувшиеся еврейскими ортодоксами, сбрасывают советских туристок, приехавших из забытого Богом промышленного городка… Гиршович не дает ответа на сложные вопросы, он лишь ставит вопросы перед читателями — в надежде, что каждый найдет свой собственный ответ.Леонид Гиршович (р.
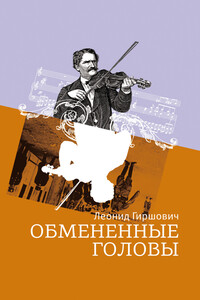
Герой романа «Обмененные головы» скрипач Иосиф Готлиб, попав в Германию, неожиданно для себя обнаруживает, что его дед, известный скрипач-виртуоз, не был расстрелян во время оккупации в Харькове, как считали его родные и близкие, а чудом выжил. Заинтригованный, Иосиф расследует эту историю.Леонид Гиршович (р. 1948) – музыкант и писатель, живет в Германии.

Жанр путевых заметок – своего рода оптический тест. В описании разных людей одно и то же событие, место, город, страна нередко лишены общих примет. Угол зрения своей неповторимостью подобен отпечаткам пальцев или подвижной диафрагме глаза: позволяет безошибочно идентифицировать личность. «Мозаика малых дел» – дневник, который автор вел с 27 февраля по 23 апреля 2015 года, находясь в Париже, Петербурге, Москве. И увиденное им могло быть увидено только им – будь то памятник Иосифу Бродскому на бульваре Сен-Жермен, цветочный снегопад на Москворецком мосту или отличие московского таджика с метлой от питерского.

«Суббота навсегда» — веселая книга. Ее ужасы не выходят за рамки жанра «bloody theatre». А восторг жизни — жизни, обрученной мировой культуре, предстает истиной в той последней инстанции, «имя которой Имя»…Еще трудно определить место этой книги в будущей литературной иерархии. Роман словно рожден из себя самого, в русской литературе ему, пожалуй, нет аналогов — тем больше оснований прочить его на первые роли. Во всяком случае, внимание критики и читательский успех «Субботе навсегда» предсказать нетрудно.
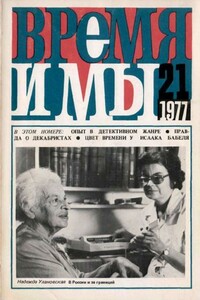
Во время концертного исполнения рапсодии для скрипки соло на глазах у публики скончался замечательный виртуоз, первая скрипка провинциального города. Местная газета отмечает поразительный факт: смерть артиста еще месяц назад была предречена с точностью до одной минуты. Значит, смерть скрипача и ее предсказание необходимо изучить полицейскому следователю.

1917 год. Палестина в составе Оттоманской империи охвачена пламенем Мировой войны. Турецкой полицией перехвачен почтовый голубь с донесением в каирскую штаб-квартиру генерала Алленби. Начинаются поиски британских агентов. Во главе разветвленной шпионской организации стоит Сарра Аронсон, «еврейская Мата Хари». Она считает себя реинкарнацией Сарры из Жолкева, жены Саббатая Цви, жившего в XVII веке каббалиста и мистика, который назвался Царем Иудейским и пообещал силою Тайного Имени низложить султана. В основу романа положены реальные исторические события.
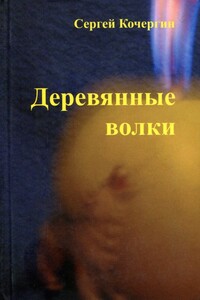
Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
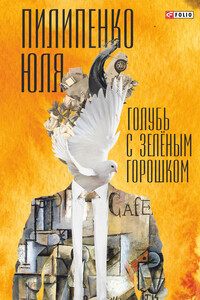
«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, в основу которой лег одноименный художественный фильм «ТАНКИ». Эта кинокартина приурочена к 120 -летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина и посвящена создателям танка Т-34. Фильм снят по мотивам реальных событий. Он рассказывает о секретном пробеге в 1940 году Михаила Кошкина к Сталину в Москву на прототипах танка для утверждения и запуска в серию опытных образцов боевой машины. Той самой легендарной «тридцатьчетверки», на которой мир был спасен от фашистских захватчиков! В этой книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности.
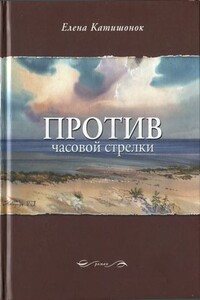
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.
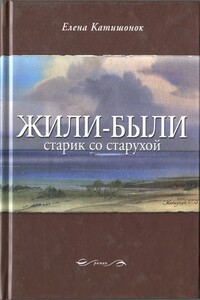
Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.
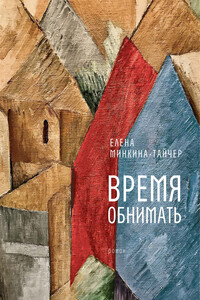
Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.
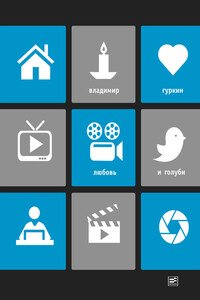
Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)