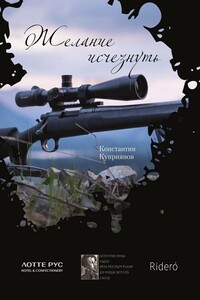Арарат - [14]
Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?
Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение… и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.
Вдруг дверь его кабинета скрыпнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.
– Кто там? – спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.
Незнакомец вошел.
Он был высокого росту – худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе – за политического заговорщика; в передней – за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком.
– Что вам надобно? – спросил его Чарский на французском языке.
– Signor, – отвечал иностранец с низкими поклонами, – Lei voglia perdonarmi se…[3]
Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.
– Я неаполитанский художник, – говорил незнакомый, – обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант.
Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:
– Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.
Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.
– Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете? – спросил он, с трудом удерживая свое негодование.
Неаполитанец заметил его досаду.
– Signor, – отвечал он запинаясь… – ho creduto… ho sentito… la vostra Eccellenza mi perdonera…[4]
– Что вам угодно? – повторил сухо Чарский.
– Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, – отвечал итальянец, – и потому осмелился к вам явиться…
– Вы ошибаетесь, Signor, – прервал его Чарский. – Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto[5]. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.
Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, – поразили его. Он понял, что между надменным dandy[6], стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.
– Куда ж вы? – сказал он итальянцу. – Постойте… Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?
– Нет, Eccellenza[7]! – отвечал итальянец, – я бедный импровизатор.
– Импровизатор! – вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. – Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? – и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.
Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

D. M. THOMASthe white hotelД. М. ТОМАСбелый отельПо основной профессии Дональд Майкл Томас – переводчик Пушкина и Ахматовой. Это накладывает неповторимый отпечаток на его собственную беллетристику.Вашему вниманию предлагается один из самых знаменитых романов современной английской литературы. Шокировавший современников откровенностью интимного содержания, моментально ставший бестселлером и переведенный на двадцать с лишним языков, «Белый отель» строится как история болезни одной пациентки Зигмунда Фрейда. Прослеживая ее судьбу, роман касается самых болезненных точек нашей общей истории и вызывает у привыкшего, казалось бы, уже ко всему читателя эмоциональное потрясение.Дональд Майкл Томас (р.
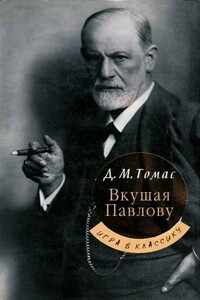
От автора знаменитого «Белого отеля» — возврат, в определенном смысле, к тематике романа, принесшего ему такую славу в начале 80-х.В промежутках между спасительными инъекциями морфия, под аккомпанемент сирен ПВО смертельно больной Зигмунд Фрейд, творец одного из самых живучих и влиятельных мифов XX века, вспоминает свою жизнь. Но перед нами отнюдь не просто биографический роман: многочисленные оговорки и умолчания играют в рассказе отца психоанализа отнюдь не менее важную роль, чем собственно излагаемые события — если не в полном соответствии с учением самого Фрейда (для современного романа, откровенно постмодернистского или рядящегося в классические одежды, безусловное следование какому бы то ни было учению немыслимо), то выступая комментарием к нему, комментарием серьезным или ироническим, но всегда уважительным.Вооружившись фрагментами биографии Фрейда, отрывками из его переписки и т. д., Томас соорудил нечто качественно новое, мощное, эротичное — и однозначно томасовское… Кривые кирпичики «ид», «эго» и «супер-эго» никогда не складываются в гармоничное целое, но — как обнаружил еще сам Фрейд — из них можно выстроить нечто удивительное, занимательное, влиятельное, даже если это художественная литература.The Times«Вкушая Павлову» шокирует читателя, но в то же время поражает своим изяществом.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
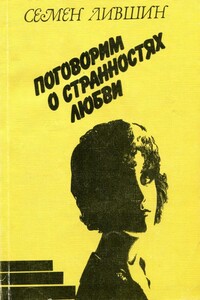
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
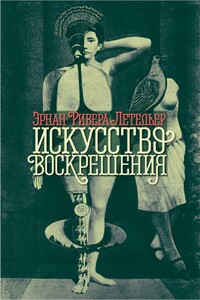
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.