Аппетит - [2]
Рука исчезает с моего плеча. Затем возвращается, гладит меня по щеке. Я поворачиваюсь и ловлю палец губами. На нем вкус персика и чего-то другого. Еще одна нить: то самое, что творит сложность из ничего, что придает смысл нашему огромному зверю, нашему городу – и нашим жизням. Я нашел это нечто, спрятанное у всех на виду. Ведь оно никогда не исчезало. Оно всегда было здесь.
Вот. Теперь я помню. И могу рассказать вам.
Первый поворот колеса Фортуны:
«Regnabo» – «Я буду царствовать»
Флоренция, 1466 год
Моя мать умерла за день до того, как мне исполнилось четырнадцать. Я видел, как она сделала последний вдох – долгий, судорожный «ах». На самом деле ничего не изменилось. Тело на маминой кровати – восковое нечто с полупрозрачной кожей убитого кабана, из которого выпустили всю кровь, – уже много дней перестало быть моей матерью. В комнате стоял запах пота, лаванды и шалфея и еще ночного горшка. Когда священник чуть подтолкнул меня к трупу, я встал на колени у кровати, взял уже холодные пальцы и неохотно поднес их к губам – они пахли так же. Я прижался губами к венам, избороздившим тыльную сторону ладони умершей, и сделал то, что делал всегда: прикоснулся языком к ее коже, чтобы ощутить вкус.
Одни люди называют талант вроде моего даром, а другие – проклятием. В нем есть и то и другое. Сомневаюсь, что многие пожелали бы узнать, какова на вкус смерть. Возможно, мы даже не захотим сидеть за одним столом с теми, кому интересны такие вещи. Но я, еще не достигший четырнадцати лет, открыл это для себя. Возможно, вы будете разочарованы: ведь я скажу, что смерть не имеет вкуса. Я говорю о самой смерти, о мгновении, которое уничтожает нас. У мертвых существ есть запах и вкус, и некоторые из них нам нравятся, иначе мы бы не оставляли мясо повисеть. Да мы бы вообще его не ели – разве что устрицы. Но сама смерть безвкусна; это пустота на языке. На коже моей матери оставались соленость пота и прогорклость чахотки. Я не надеялся найти те вкусы, которые любил: чеснока и лука, воды из колодца в нашем дворе, иногда чернил и всегда цветочной воды, которую мама покупала у аптекаря около Палаццо делла Синьория. Я ожидал болезнь и мыло и обнаружил их, но вкусы были пустыми. Я вскочил, пошатнувшись, и бросился наверх, в угол лоджии, и стал качаться на пятках, пытаясь изгнать все это из себя, отгородиться. Не потому, что мама умерла: я ожидал этого, да и люди все время умирали. Я вдруг осознал, что ей был присущ некий собственный, особый вкус, а я обнаружил это, только когда его не стало. Он ушел вместе с мамой, и я уже никогда не узнаю, что это был за вкус.
Мама хотела, чтобы у ее постели сидел брат, но Филиппо не приехал. Он уже много лет не жил во Флоренции, но весь город знал о его похождениях в Прато: как он обрюхатил монахиню, сбежал с ней, а затем ухитрился убедить Папу Римского, не меньше, дозволить им обвенчаться. Он всегда был обаятельным соблазнителем, мой дядя Филиппо Липпи. Но во Флоренции до сих пор помнили, как он, попавшись на мошенничестве, попытался обвинить другого, и тогда его вздернули на дыбу и растягивали, пока кишки не вылезли – впрочем, далеко не все, потому как его зашили обратно и выслали шалить дальше. Об этом-то помнили все. А вот о том факте, что дядя – величайший художник нашего века, вспоминали меньше, хотя его великолепные работы были повсюду. Это лишь подтверждало, что злые болтливые языки сильнее зоркого глаза ценителя прекрасного.
Но Филиппо приехал бы, если бы знал. Если бы мой отец соизволил ему сообщить, что мама умирает, дядя бы подковы стер, дабы попасть к ее смертному ложу. Он был маме лишь сводным братом – кузеном из лаппакийской ветви семьи, – но они любили друг друга так, будто вышли из одной утробы. Филиппо не смог бы ее спасти, однако мне, пожалуй, стало бы легче, если бы я видел возле маминой постели его щетинистое, обрамленное тонзурой лицо. И он бы нарисовал ее, живую и мертвую. Мне казалось, что, если бы в последующие дни, когда труп моей матери лежал среди свечей, а затем без особой шумихи переместился под простую мраморную плиту в церковь Сан-Ремиджо, я смотрел на все это глазами Филиппо, через линии, которые он чертил на бумаге угольком, пытаясь запечатлеть то, что видят его глаза – в самом деле видят, – я понял бы больше. Дядя показал бы нечто пропущенное мною. Ведь я знал даже тогда, что глаза Филиппо делали что-то, отличающее его от других людей, так же как мой язык, мое нёбо отличали меня. У настоящего художника голодные глаза. У Филиппо, с его аппетитом ко всему, уж конечно, были именно такие. Он видел вещи, которые другие упускали. А я чувствовал их вкус.
Я все еще сидел, скорчившись, у стены лоджии. Отец звал меня. Голуби копошились на балках над моей головой, снизу, с улицы, слышался перестук шагов. Мне хотелось заорать на них всех, чтобы заткнулись, оставили меня в покое, но вокруг была Флоренция, где покоя не дождешься никогда. Я поднялся на ноги – медленно, мучительно. Папа позвал меня опять. Я посмотрел через перила на улицу, надеясь разглядеть там какого-нибудь друга: Арриго, Тессину, братьев Ленци. Но увидел только головы, лысеющие, сальноволосые или покрытые шапкой, и ни одно лицо не было обращено в мою сторону. Поэтому я взял себя в руки и побрел обратно, чтобы преклонить колени у маминой постели. Священник и хирург сплетничали о каком-то судье. Папа ушел устраивать похороны. Затем все вышли, и я остался один. Мамин рот с почти белыми губами был открыт. Я старался не смотреть на нее, но вид этого темного овала казался непереносимым, и я попытался его закрыть. Вялость ее челюсти ужаснула меня, и, комкая влажные простыни, чтобы подпереть подбородок и закрыть рот, я кривился от ужаса того, что делаю. Мама ушла, но ее труп остался – опустевшая штуковина со ртом, который больше не мог ни дышать, ни говорить, ни ощущать вкусы. Пустой. Склеп. Наконец я закрыл ей рот и уронил лицо в ладони.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
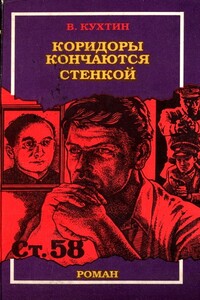
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Начало XVII века. Голландское судно терпит крушение у берегов Японии. Выживших членов экипажа берут в плен и обвиняют в пиратстве. Среди попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн, прекрасно знающий географию, военное дело и математику и обладающий сильным характером. Их судьбу должен решить местный правитель, прибытие которого ожидает вся деревня. Слухи о талантливом капитане доходят до князя Торанага-но Миновара, одного из самых могущественных людей Японии. Торанага берет Блэкторна под свою защиту, лелея коварные планы использовать его знания в борьбе за власть.

Впервые на русском – новейшая книга автора таких международных бестселлеров, как «Шантарам» и «Тень горы», двухтомной исповеди человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть. «Это поразительный читательский опыт – по крайней мере, я был поражен до глубины души», – писал Джонни Депп. «Духовный путь» – это поэтапное описание процесса поиска Духовной Реальности, постижения Совершенства, Любви и Веры. Итак, слово – автору: «В каждом человеке заключена духовность. Каждый идет по своему духовному Пути.

Джеймс Джойс (1882–1941) — великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления XX века. Роман «Улисс» (1922) — главное произведение писателя, определившее пути развития искусства прозы и не раз признанное лучшим, значительнейшим романом за всю историю этого жанра. По замыслу автора, «Улисс» — рассказ об одном дне, прожитом одним обывателем из одного некрупного европейского городка, — вместил в себя всю литературу со всеми ее стилями и техниками письма и выразил все, что искусство способно сказать о человеке.
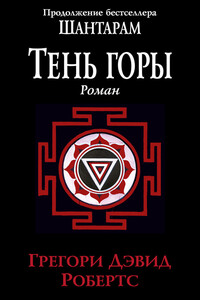
Впервые на русском – долгожданное продолжение одного из самых поразительных романов начала XXI века.«Шантарам» – это была преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошедшаяся по миру тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмиллиона – в России) и заслужившая восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Маститый Джонатан Кэрролл писал: «Человек, которого „Шантарам“ не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв… „Шантарам“ – „Тысяча и одна ночь“ нашего века.