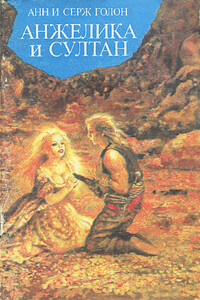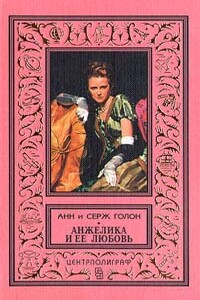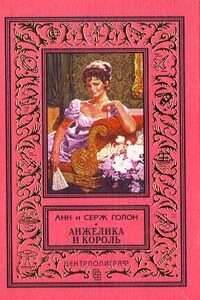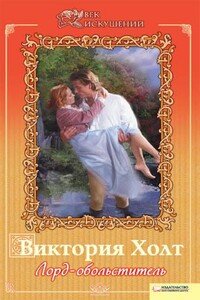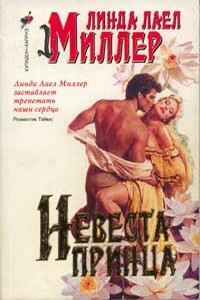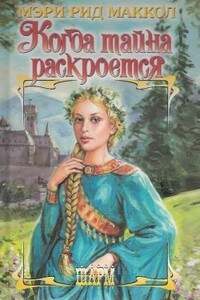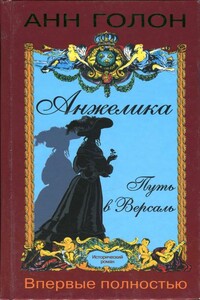Старый Гийом Лютцен, говоривший неторопливо и с тяжелым акцентом, был куда проще. Его называли то швейцарцем, то немцем. Вот уже несколько лет, как его, босого и хромающего, увидели бредущим по римской дороге. Он вошел в замок Монтелу и попросил кружку молока. А потом остался как слуга, привычный к любой работе, готовый смастерить и починить что угодно, и барон Сансе поручил ему носить письма соседям и встречать сборщика податей, когда тот являлся требовать долги. Старый Гийом долго слушал его, а затем отвечал ему на своем диалекте то ли швейцарского горца, то ли гессенского крестьянина, и сборщик уходил, обескураженный.
А еще он знал рассказы, приводившие детей в восторг. Скорее именно возвращение лета пробуждало его пыл, ведь именно с приходом тепла солдаты идут на войну, потому что именно в это время полководцы покидают королевские дворы, танцы и развлечения и присоединяются к своим армиям, снимающимся с зимних квартир, и вновь идут сражаться, даже не спросив куда и против кого.
Лютцен показывал на восток, туда, где вставало солнце, и начинал свой рассказ о неведомых империях, германских солдатах, которыми правил император, как во времена римлян, и еще о турках. В тех далеких странах война не прекращалась ни зимой, ни летом, эта война длилась бесконечно. Земли были так опустошены, что теперь на каждом лье было больше волков, чем людей. И он шел до тех пор, пока не добрался до земли, где не было войны.
С какого поля боя он явился? С севера или с юга? И как случилось, что этот чужеземный наемник пришел по дороге из Бретани? О нем знали только, что при Лютцене он сражался под командованием кондотьера Валленштейна[15] и что ему досталась честь проткнуть брюхо славного толстого шведского короля Густава Адольфа, когда тот, заблудившись в тумане во время битвы, напоролся на австрийских копейщиков.
На чердаке, где жил Гийом, можно было увидеть, как среди сетей паутины блестят на солнце его старые доспехи и каска, из которой он, бывало, пил горячее вино или хлебал суп. Огромная пика, втрое выше его самого, служила для того, чтобы сбивать с деревьев созревшие орехи. Но больше всего Анжелика завидовала маленькой, инкрустированной деревом, черепаховой терке, которую он называл «беспутной», как и самих немецких наемников на французской службе, которых тоже величали «беспутными».
Двери просторной кухни замка весь вечер не знали покоя. Ближе к ночи они открывались, принося с собой сильный запах навоза, слуг, служанок и кучера Жана Латника, столь же неразговорчивого, сколь болтлива была его мать. Вслед за ними пробирались собаки: две длинные борзые Марс и Майоран и таксы, испачканные грязью по самую макушку.
А в самом замке двери распахивались перед ловкой Нанеттой, которая служила горничной, надеясь набраться хороших манер и покинуть своих бедных хозяев, отправившись на службу к маркизу де Плесси-Бельер, чей замок был в нескольких лье от Монтелу. Сновали туда-сюда двое слуг с нечесаными лохмами, спадавшими на глаза. Они носили дрова для большого зала и воду для комнат. Затем появлялась госпожа баронесса. У нее было приятное лицо, однако иссушенное на открытом воздухе и увядшее от многочисленных родов. Она носила серое саржевое платье и черный шерстяной капюшон, потому что в большом зале, где она проводила время с дедушкой и старыми тетушками, было более сыро, чем в кухне.
Она осведомлялась, скоро ли будет готов отвар для господина барона и охотно ли сосал грудь малыш, и мимоходом гладила по щеке прикорнувшую Анжелику, чьи длинные волосы цвета темного золота разметались по столу, сверкая при свете очага.
— Настало время идти в постель, деточки мои. Пюльшери проводит вас.
И старая тетя Пюльшери появлялась с извечной покорностью. Бесприданница, она так и не смогла найти ни человека, готового взять ее замуж, ни монастыря, готового ее принять, и вместо того, чтобы целыми днями стонать и ткать гобелены, она охотно взяла на себя роль гувернантки при своих племянницах, желая быть полезной. Все относились к ней с легким презрением и уделяли ей меньше внимания, чем другой тете, толстой Жанне.
Пюльшери собирала своих племянниц. Служанки укладывали самых маленьких, а Гонтран, у которого не было наставника, отправлялся к своему тюфяку на чердаке, когда ему заблагорассудится.
Вслед за тощей старой девой Ортанс, Анжелика и Мадлон добирались до зала, где свет очага и трех свечей с трудом разгонял нагромождение теней, веками копившихся под средневековыми сводами. Развешенные по стенам гобелены служили защитой от сырости, но время и прожорливые черви покрыли тайной сцены, которые были на них изображены, только чьи-то безумные глаза на бледных, словно смерть, лицах с укором следили за всеми.
Девочки делали реверанс дедушке. Он сидел перед огнем, в своем черном широком плаще, подбитом облезлым мехом. Но его белые руки, покоившиеся на рукоятке трости, выглядели по-королевски. Он носил широкополую черную шляпу, а его борода, подстриженная под углом, как у покойного короля Генриха IV, опиралась на маленький плоеный воротничок, который Ортанс втайне считала совсем вышедшим из моды.