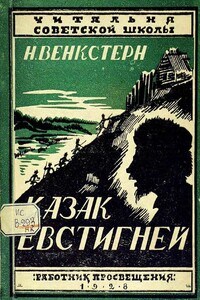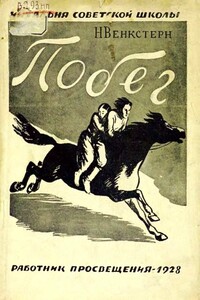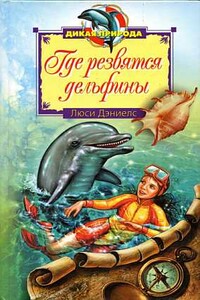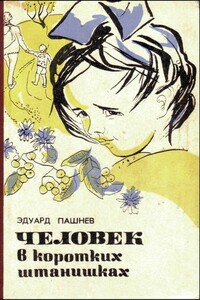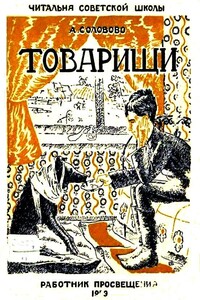— Вполне возможно! Теперь всякий может учиться чему хочет. Только сначала грамоте научиться надо.
В беседах и осмотре всего, что Андрейка, увидал нового и необыкновенного вокруг себя, проходит целый день.
Прозрачные весенние сумерки спускаются на землю, и далеко по лесу и по реке разносятся стук топоров и голоса рабочих. Андрейка продолжает бродить, но непреодолимая усталость валит его с ног, — он таращит глаза, стараясь, чтобы сами собой не сомкнулись веки, ноги его точно налиты свинцом, точно на каждом шагу прирастают к земле. Наконец, он пробирается в барак, влезает на нары, говоря самому себе:
— Вот, посижу, отдохну. Но тотчас засыпает.
Когда Андрейка просыпается, вокруг него все переменилось и делается что-то странное. Во-первых, наступила уже ночь; во-вторых, где-то совсем близко, у самого уха, тихо булькает вода. Андрейке лежать не совсем удобно, потому что под боком у него, вместо сенника, всего-навсего сложенный вдвое отцовский кафтан. Андрейка поднимает глаза: над ним — тесно сплетенные сучья, но из-за сучьев он видит светлое весеннее небо и горящие на нем бледные звезды. Совсем рядом с собой Андрейка слышит голоса:
— Левей, левей, наддай!
Вода булькает громче, как в самоваре, когда он закипает.
Другой голос что-то напевает. Андрейка не в состоянии удержать любопытства, скидывает с себя армячишко, которым он покрыт, и встает. Он в шалаше; рядом с ним, на железном большом листе, тлеют догорающие угли; из отверстия шалаша виден большой плот с фигурами сплавщиков и дальше — вода, которая в прозрачном сумраке северной ночи кажется голубовато-серебристой.
Андрейка выходит из шалаша; плот как-раз огибает выступ берега, и потому отец Андрейки, выполняющий на плоту должность проводника, и рабочие сосредоточенно работают. Андрейка замирает: вот-вот, кажется, плот налетит на выступ и разобьется вдребезги. Вода под ним беспокойно переливается струйками, захлестывая один из его углов. Отец вполголоса отдает команду:
— Левое весло! Еще раз! Довольно! Левое! Левое! Наддай!
На одно мгновение плот чуть-чуть накреняется, так что Андрейка даже слышит, как позади него, в шалаше, тихо звякают друг о друга висящие на прутьях котелки. Но тотчас опять все приходит в порядок. Плот обогнул мысок, и перед ним расстилается уже гладкая, прямая, как шоссе, река. Рабочие поднимают весла и закуривают. Матвей Иванович, который сидит на плоту, на бревнышке, оглядывается на Андрейку.
— Глядите-ка, товарищи, главный сплавщик проснулся.
Тятька оборачивается к Андрейке и улыбаясь говорит:
— Что ж ты не спишь?
— Тятька! А как это я на плот попал?
— Как попал? На руках тебя принес. Будил, будил. — вижу, нет, — сынишка мой все равно, что бревно, рукой и то не пошевельнул; сгреб тебя на руки, да и снес.
— Я, тятька, больше спать не буду.
— Ну что ж, сынок, посиди с нами, послушай наш разговор.
Около Матвея Ивановича стоит еще не о стывший большой чайник с кипятком, лежит коврига хлеба, жареная рыба.
— А мы тебе и ужин приготовили, — говорит Матвей Иванович и угощает Андрейку.
Пока Андрейка с удовольствием жует хлеб, рабочие продолжают, по-видимому, незадолго перед этим прерванный разговор. Один из них — почти старик, седой, с длинной бородой, покрывающей грудь. Он уж много лет работает на лесозаготовках и рассказывает про старину.
— В былое время. — говорит он, — шли мы в лес на порубку все равно, что на каторгу. Хозяйствовали тогда над лесом купцы, о рабочем человеке и не думали: каково-то ему живется, лишь сработал бы побольше. В лесу сторожки тогда строили хуже собачьей конуры. Печи такие ставили, что придешь вечером с работы и не знаешь, что лучше: с холоду ли пропадать, или в дыму задохнуться. Пища была такая, что только уж от большой голодухи съешь, а иные купцы так подряжали, чтобы на своих харчах у них работать, Ну, пока здоров — ничего, терпишь. Ну, а коли несчастье какое случится — хворь ли нападет, или ранишь себя как на работе, — пиши пропало. Хоть помирай — помочь некому. А мало ли что на работе случиться может. Помню я случай такой: парень молодой с нами работал. Свалили мы ель — этак сажен пять вышиной; стал он с нее сучья обрубать, сел на нее верхом да и принялся за работу. Ловкий был, любовались мы на него. Стук! Стук! Сучья так и валятся, и только топор в воздухе блестит. Да только случилась беда. Видим мы, наш Васька взмахнул топором, ударил, да и словно онемел сразу весь и топор отбросил. Мы ему: «Ты что, Василий?» «Я — говорит — себе по ноге хватил». Бросились к нему, стащили валенки, из ноги кровь так и хлещет. Сначала не так чтобы очень испугались — положили ему на ногу лед, завязали потуже: авось, кровь перестанет. Только, глядим, не успели его до избы довести, а уж повязка вся промокла и след кровяной на снегу. Провозились с ним часа два: идет кровь, да и все. Васька наш белый весь лежит, губы посинели, и видно такая слабость его забрала, что рукой шевельнуть не может. Говорит он нам: «Мне бы, братцы, доктора али фершела какого-нибудь». А где его взять: до медицинского пункта верст 200 расстояния. Мы — к десятнику: «Так, мол, и так», а он говорит: «Ничего, отлежится Васька ваш». Ну и отлежался: там же в лесу и зарыли беднягу.