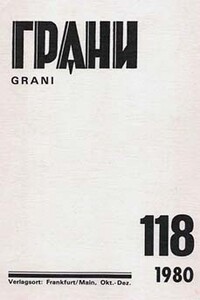Аметисты - [3]
При слове «обыскивать» А. Б. взвилась, как охотничья собака: она проявила и удивительную инициативу. Закричала: «Так! Немедленно перекрываем двери — парадную и черного хода, т. е. тамбуры! У нас один раз в нашей коммунальной украли — так обыскали себя сами — в один миг все нашлось. Подкинули — в наилучшем виде — золотые часы «Брегет» с цепью — буквально лежали на Ксеньином столе на блюдце Кулеминых. Буквально! Перед обыском вор не устоит. Так! Еще полтора часа до Москвы. Успеем! Ох, как мы успеем! Так! Быстро опишите письменно, как выглядело ваше кольцо. Аметист в бриллиантах. Огранка? Кабошон! Мне больше нравится классическая…».
Ее энергию нельзя отразить письменно, т. к. нет таких слов, которые будут дрожать, как тетива, и искрить, как старый выключатель в комнате, заполненной бытовым газом. Конечно, всех обыскать ей не удалось, но она бы смогла, смогла. Во всяком случае, я показал ей и мыльницу, и тюбик поморина, на который она очень хотела нажать. «Ведь в чемодан не успеть, когда только из туалета. Так ведь?! Так», — удовлетворенно говорила она.
Как ни странно, все как–то были готовы показать ей все — она распространяла вокруг себя флюиды подчинения, как вожак стада человекообразных. Рядом стояла похмельная красная проводница. Она тихо твердила: «За мои смены первый случай». «Вы лучше следите, чтобы с того конца никто не вышел. Там вроде туалет был закрыт?» «А мы обычно только один даем». В этой фразе было все — весь железнодорожный апофеоз.
«Ой, да какая дура! Какая дура! Я его себе в бюстгальтер положила, когда умывалась». А. Б. досадливо посмотрела на нее и спросила: «Ну–ка, дайте сюда, я сличу с вашими описаниями». Та безропотно дала. «Да, кабошон, в бриллиантах — есть утраты. У вас были утраты». «Да, это еще до войны мама потеряла. Так и остались щелки такие, в них сор набивается, когда посуду мою».
— Зарубите, милая, себе на носу. Только плебеи моют грязную посуду в перстнях. Зарубите.
Она посмотрела на меня и сказала: «Разве это контингент?». Я бы никогда не отцокал так это прекрасное соло. О, «les Sauvages»…
Мы доехали. А. Б. встречала сестра, они мгновенно стали что–то давнее незримое делить, вырывая друг у друга сумку.
На этом все и кончилось бы навсегда, если бы я не увидел Ярополка. Об этом стоит сказать.
Глубокой осенью, когда дни, точнее, присвоенные им календарные числа отличаются репертуаром театров, — мы с женой и одним моим старым другом, приехавшим очень издалека, отправились в балет. Это была, конечно, «Жизель–жизель–жизель», которую нигде в мире, кроме как в Санкт — Петербурге, не увидеть. Признаюсь, что к действию с вилиссами мы уже прилично приняли, и во внутреннем кармане моего пиджака грелась прекрасная плоская фляжка с не менее прекрасным коньяком, кстати, армянским, потому что во всем мире, кроме Российской Федерации, его тоже не попробовать. Друг мой ностальжировал, поэтому мы купили дорогущие билеты в партер. Плясала какая–то прима, которая исполняет Жизелей крайне редко, поэтому к подъезду мы пробирались через толпу маньяков, где каждый знал всех, а все — его. Это была такая гоголе–достоевская толпа. Согласно первому, — смешная, второму — страшная. Дешевый парфюм только еще сильнее подчеркивал пародонтозный дух. Смесь, конечно, особенная. Был аншлаг. Очередь к администратору была угрюмой. При входе в партер проверяли билеты еще раз, и при входе задавали простые вопросы, чтобы выловить иностранцев, обязанных покупать дорогие особые билеты, в отличие от аборигенов. Чтобы я не нахамил на вопрос, типа «а здравствуйте?», жена держала меня за руку.
Одним словом, весь первый акт рядом с нами зияли два пустых места. В антракте мы в буфете выпили еще, поглазели на фланеров, которые ходили по фойе, как в полонезе, но без музыки и танцев, а просто пешком. Какая–то вычурная тетка в самодельном душераздирающем длинном платье пятилась, галантно отступала в сторону и милостиво улыбалась проходящим мимо. Ее старались не видеть. Ну и все такое. Когда мы уселись — над соседними пустыми стульями уже клубились дежурные. Мы сидели в середине ряда, и до пустых кресел можно было добраться справа и слева. Я услышал шипение, в котором был целый спектр чувств:
«Ярополк, — кто–то говорил сжатыми губами, не размыкая зубов, — Ярополк, занимай, занимай, занимай, дурак. Какой ты дурак! Сейчас зазвонят».
И действительно, мимо нас, давя ноги и ломая колени, проломился и упал в кресло какой–то унылый дядька. Псих не псих. Вроде как ряженый… У него чудовищный галстук–ацетат синевато–серого цвета. По моде моей юности. Цвета аметиста.
Его вид стоит описать. Он сидел как вкопанный, положив на соседнее кресло руку с программкой, бессмысленно уставившись вперед, будто перед ним на турели был укреплен незримый прибор ночного видения. Его прямая посадка была безукоризненна — вертикаль. Так высаживают мальчиков за пианино, как тепличную рассаду, нет, понял, как точнее — так прорастает белой прямой немочью зимний картофель в подполье. От замыленного запаха пустого клубня мне будет еще долго не отделаться.
Он так и просидел все заключительное действие — как куст картофельной ботвы, будто вилиссы проходили сквозь него, как иллюзионисты сквозь ширму. Он давал миллион поводов сказать так, т. к. почему–то требовалась точность в наречении. Я даже не мог никак сообразить, — что же произошло со мной — выпил я с другом совсем немного. Вот и сейчас по наперстку отхлебнули, и я сдержал себя, чтобы не протянуть фляжку своему соседу. Стоило сказать, наверное: Ботва, хряпнешь? Чтобы люстра не обвалилась. Рядом с ним уже кто–то завозился. Он, не меняя позы, говорил:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Похороны кузнечика», безусловно, можно назвать психологическим романом конца века. Его построение и сюжетообразование связаны не столько с прозой, сколько с поэзией – основным видом деятельности автора. Психология, самоанализ и самопознание, увиденные сквозь призму поэзии, позволяют показать героя в пограничных и роковых ситуациях. Чем отличается живое, родное, трепещущее от неживого и чуждого? Что достоверно в нашей памяти, связующей нас, нынешних, с нашим баснословным прошлым? Как человек осуществляетсвой выбор? Во что он верит? Эти проблемы решает автор, рассказывая трепетную притчу, прибегая к разным языковым слоям – от интимной лирики до отчужденного трактата.
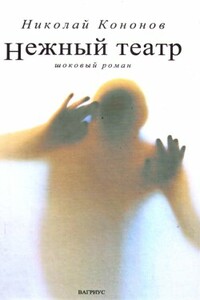
Герой «Нежного театра» Николая Кононова вспоминает детские и юношеские впечатления, пытаясь именно там найти объяснения многим событиям своей личной биографии. Любовная линия занимает в книге главенствующее место. Острая наблюдательность, провокативная лексика, бесстрашие перед запретными темами дают полное право назвать роман «шоковым».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
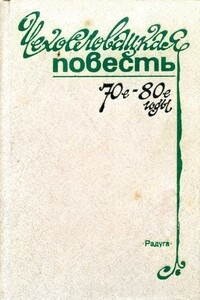
Сборник знакомит с творчеством известных современных чешских и словацких прозаиков. Ян Костргун («Сбор винограда») исследует морально-этические проблемы нынешней чешской деревни. Своеобразная «производственная хроника» Любомира Фельдека («Ван Стипхоут») рассказывает о становлении молодого журналиста, редактора заводской многотиражки. Повесть Вали Стибловой («Скальпель, пожалуйста!») посвящена жизни врачей. Владо Беднар («Коза») в сатирической форме повествует о трагикомических приключениях «звезды» кино и телеэкрана.Утверждение высоких принципов социалистической морали, борьба с мещанством и лицемерием — таково основное содержание сборника.
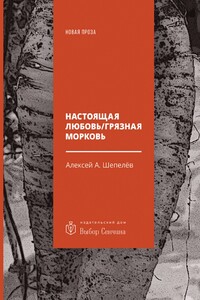
У Алексея А. Шепелёва репутация писателя-радикала, маргинала, автора шокирующих стихов и прозы. Отчасти она помогает автору – у него есть свой круг читателей и почитателей. Но в основном вредит: не открывая книг Шепелёва, многие отмахиваются: «Не люблю маргиналов». Смею утверждать, что репутация неверна. Он настоящий русский писатель той ветви, какую породил Гоголь, а продолжил Достоевский, Леонид Андреев, Булгаков, Мамлеев… Шепелёв этакий авангардист-реалист. Редкое, но очень ценное сочетание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В свое время Максим Горький и Михаил Кольцов задумали книгу «День мира». Дата была выбрана произвольно. На призыв Горького и Кольцова откликнулись журналисты, писатели, общественные деятели и рядовые граждане со всех континентов. Одна только первая партия материалов, поступившая из Англии, весила 96 килограммов. В итоге коллективным разумом и талантом был создан «портрет планеты», документально запечатлевший один день жизни мира. С тех пор принято считать, что 27 сентября 1935 года – единственный день в истории человечества, про который известно абсолютно все (впрочем, впоследствии увидели свет два аналога – в 1960-м и 1986-м).Илья Бояшов решился в одиночку повторить этот немыслимый подвиг.

История о жизни, о Вере, о любви и немножко о Чуде. Если вы его ждёте, оно обязательно придёт! Вернее, прилетит - на волшебных радужных крыльях. Потому что бывает и такая работа - делать людей счастливыми. И ведь получается!:)Обложка Тани AnSa.Текст не полностью.