Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского - [46]
«А почему это так, а не иначе?»
И в эти счастливые минуты полета в эмпиреи, когда размышляешь о божественном, о сложности жизни: «Мы-то думаем, что все сами, на свои деньги приобретаем, а как посмотрим, да поглядим, да сообразим — ан все Бог» — около фразы пометка:
«Вот в чем вся сложность вопроса. Не все Бог дает, что просят».
И в эти размышления вторгается грубая действительность с вопросом маменьки: «А ты знаешь, какой сегодня день? Память кончины милого сына Владимира».
И Смоктуновский пишет на полях внутренний отклик Иудушки на эти слова:
«Спасибо, что напомнили, но, честно говоря, могли бы этого и не заметить, так как сын-то был меня недостоин. Да ведь это то, что нельзя забывать».
И собственный комментарий размышлениям своего героя:
«Почувствовал укол и соображает, как ответить».
У Салтыкова-Щедрина Иудушка бледнел на словах маменьки, крестился и оправдывался: грех-то какой! Иудушка Смоктуновского грешным себя чувствовать не способен ни в какой ситуации. Забыл о сыне, потому что о нем помнить не надо:
«Один грех — забыл про панихиду. Второй — горевание о светлой памяти нашего сына».
А как горевать по самоубийце?
«И все не понимаю, что же с ним случилось?»
Самоубийство сына Владимира не укладывается в схемы его мира, грозит разрушить самый столп и основание его жизни — уверенность в собственной непогрешимости, и потому о нем так мучительно думать. Единственный выход — обвинить самого дурного сына. Как формулирует артист:
«Значит, была, должна была быть какая-то червоточина».
Приезд второго сына Петеньки застает врасплох:
«Живет в мире организованных понятий, и поэтому приезд сына — явно настораживает.
Любая неожиданность — возможность беды.
Мертвенно побледнел».
Общая тональность встречи с сыном — оборона:
«Рок. Безусловное покушение.
Уже нужно обороняться,
— Не успел я справиться с матерью, как дети лезут, и мертвые, да еще живые».
Впервые в пометках мертвые и живые поставлены через запятую и обозначены как враги. И этой общностью опасно сближены друг с другом. Умертвия становятся реальностью для самого Иудушки, хотя сам он еще не отдает себе отчета, на тропу какой войны встает.
Принимая приехавшего сына, произнося положенные ритуалом приветствия и радостные восклицания, Иудушка, по Смоктуновскому, вглядывается в сына:
«По ходу выясняю меру этой опасности —???
Повисло событие —???»
Сын явно встревожен, насторожен, груб. Смоктуновский отмечает разные пласты в реакции на сыновью грубость:
«Трясутся губы, бледнеет: «ну, ответишь, ну, покрутишься».
При оскорблении не идет на прямой ответ.
Его психофизический аппарат очень подвижен, натренирован в беспрестанных «боях». Детство с матерью, братьями и правдой.
Он способен к анализу».
Рядом с внешней реакцией (бледнеет, трясутся губы…) артист выписывает особенности психофизиологической конституции: подвижность психики, способность к анализу, способность сдерживать себя, уклоняясь от неприятных объяснений. Сложноорганизованное существо, тренированное и восприимчивое. К ранее написанным образам «Сволочи-Рокфеллера», «русского Ричарда», «самовозбуждающегеся ската» артист добавляет еще:
«Стеклянный урод».
И:
«Тать в нощи».
Стеклянный, то есть прозрачный, всем насквозь видный. Но прозрачность эта — одна видимость. В стеклянной оболочке клубится ночная тьма, роятся призраки… «Тать-урод», нечто удвоенно мерзкое, — обманчиво прозрачен, обманчиво понятен. Смоктуновский описывает стратегию поведения своего героя:
«Не прикидывается, чтобы в своей правоте не повторяться, не хитрит, не делает вид, а готов схватиться с целым миром — в этом его сила, и тогда тать-урод появляется сам собой.
Редко, очень редко врет. Серьез его правоты, и тогда ложь его не расшифровывается.
Загустелость его погружения, серьеза, своей всегдашней защиты ото всех —
влезть в это изнутри».
Иудушка, по Смоктуновскому, отнюдь не сознательный лицемер, не притворщик, не хитрец. Он абсолютно убежден в своей правоте, готов драться со всем миром, чтобы доказать свою правоту. Относится к себе с предельной серьезностью, предельно погружен в себя. И Смоктуновский, ставя перед собой задачу «влезть в это изнутри», убежден, что стоит со всей серьезностью возвести себя в абсолют — тут тать-урод и проявится. Он болтает без остановки, но за всем его родственным приветственным трепом одно:
«Что случилось?»
Почему сын пожаловал в день смерти своего брата? На что намекает он своими восклицаниями, чего добивается? Какая тут хитрость таится? Смоктуновский выписывает на полях этой сцены странный «пример» таких житейских хитростей:
«Кароян, который «заболел», чтобы продвинуть одного японского дирижера,
а затем на год уступил свой оркестр этому японцу. Бернстайи».
Смоктуновский не расшифровывает, в чем же «схитрил» Бернстайн. Но, видимо, та же ситуация: расчет выдается за случайность («заболел»). А тут приехал в день годовщины смерти брата. Совпадение? На полях: «Дата смерти Володьки».
При том, что, по Смоктуновскому, отец знает сына насквозь:
«Знание сына идеальное.
Очень-очень чувствителен: за 40 километров учувствовал смерть брата».
Но тут он не понимает ситуацию:
«Как, м.б., ни парадоксально, но крылышки-то у меня, а не у Володи. Это он плох. Очень плох».
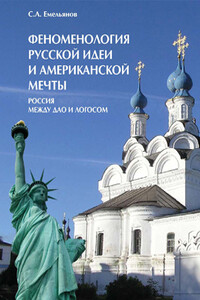
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
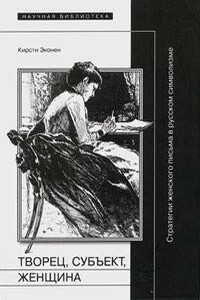
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.