Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского - [32]
«Шурочка — полюс, магнит, который тянет…».
И невозможность оторваться от этого магнита вызывает особую резкость с некстати появившимся Боркиным:
«Я хоть это разрублю, сделаю» («Я прошу вас сию же минуту оставить мой дом!»).
Кульминация действия: сцена Иванова с Саррой. Долгие разговоры о ее смертельной болезни, размышления Иванова об ушедшей после пяти лет брака любви, о странном безразличии его даже к известию о близкой смерти жены — все это только подготовка, фон к невозможному почти нечеховскому по обнаженности и накалу страстей, фантастическому, «достоевскому» разговору.
Характерно, что пометки артиста на удивление кратки и идут как бы абсолютно перпендикулярно произносимому тексту:
«Словами мы что-то делаем всегда. В многословии найти: что же происходит, С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ И К ЧЕМУ ПРИХОДИТ…».
В этом не только комментарий артиста к конкретной сцене, но и вообще к этой растянутой, многословной пьесе Чехова, где его герой говорит, говорит, говорит.
Чем озлобленнее реплики их беседы, чем острее они ранят, тем нежнее вразрез идущее внутреннее чувство, которое, по Смоктуновскому, должно придать объем словам, объем их семейным отношениям, которые иначе будут восприняты как чисто бытовая супружеская свара:
«Да нет же, дорогая, все хорошо, и я всегда и сегодня твой.
Да я не хочу быть с ней и не пойду туда. Я весь с тобой, здесь».
На крик Иванова: «Замолчи, жидовка! Так ты не замолчишь? Ради бога… Так знай же, что ты… скоро умрешь… Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь…» — в записях комментарий из всего двух слов:
«Катарсис-очищение».
Смоктуновский заканчивает на этой ноте сцену, заканчивает на этой ноте последнюю встречу этих людей. Прорвался нарыв? Впервые загнанное внутрь чувство облеклось в слова? Или, произнеся эти кошмарные фразы, сам ощутил, наконец, и ужас перед будущим, и нежность к обреченной и любимой женщине, и жалость, и ту самую любовь, отсутствие которой делает для него невыносимой жизнь?
В спектакле Ленкома Сарра — Чурикова обнимала на этих словах мужа, прощая и благословляя его. В спектакле МХАТа сцена кончалась на неожиданно тихой ноте. Все замирало, застывало, Иванов прятал лицо…
Действие четвертое
Смоктуновский предваряет последнее действие долгим вводом, точно давая себе возможность «прожить» время, прошедшее с последней ссоры с Саррой, почувствовать состояние Иванова в день его свадьбы с Сашей…
У Чехова отношения Иванова и Саши прописаны достаточно неопределенно. Актер может играть и полное безразличие, сменившее короткую вспышку чувственного влечения, и финал долгой связи, завершающейся внутренним безразличием и обязанностью «честного человека» жениться, и любовь, из-за которой боится испортить жизнь молодой девушки, как уже испортил жизнь Сарре. Смоктуновский в своем «актерском плане» роли Иванова уделяет довольно значительное место чувству к Саше, внимательно анализирует тончайшие переходы их взаимоотношений. Для актера принципиально, что для его Иванова любовь — важнейшее «внутреннее составляющее».
Финальный выстрел тем самым абсолютно лишается всех бытовых мотивировок: не захотел «лезть в петлю», связываться с нелюбимой девушкой и т. д. И обретает совсем иной смысл и иное измерение. Иванова «держит» его чувство к Саше, оно сильнее воли и рассудка. Просто уйти от нее он не может, остаться — переступить какие-то внутренние законы, собственные принципы, — тоже:
«Ушла деятельность — ушла любовь к Сарре — ушла гармония.
Жизнь оттолкнула его от всех забот — пустота.
Нельзя жить, убив жену; губя молодую Шурочку».
Чувство вины заставляет Иванова брать на себя все: чахотку, сведшую в могилу Сарру, и решение стать его женой, которое приняла Саша вполне самостоятельно… Ища внутреннее оправдание своему герою, Смоктуновский особенно выделил постоянное чувство вины, которое живет в Иванове, который чувствует себя ответственным за все и потому виноватым перед всеми.
В преддверии четвертого действия артист выделяет в Иванове два доминирующих чувства: внутренней пустоты и безмерной вины перед всеми. И следом ощущение сужающегося враждебного кольца, которое артист видит как бы со стороны:
«Бедный Иванов хотел бы жить, но не дают».
Смоктуновский делает здесь принципиальный шаг: его Иванов стреляется не потому, что не хочет жить, не потому, что устал и разочаровался, а потому, что ему «не дают жить». Не дают окружающие, измучившие его своими требованиями, своей жадностью. Не дают жить его собственные убеждения, его взгляды. Смоктуновский здесь как бы дополняет и углубляет Чехова, вводя конфликт «между долгом и чувством». Хочет жить, хочет любить Сашу, хочет счастья. Но считает, что это запретно, что это нарушение идеалов, — и потому пуля:
«ЕГО ЖЕНИТЬБА — ЖИВОЙ УПРЕК ТОМУ, КАК ОН НЕ ПРОТИВОСТОИТ ЭТОМУ БЕЗВРЕМЕНЬЮ».
Смоктуновский выделил эту не очень складную фразу рамкой, обозначив тему четвертого действия.
По сути, он должен последовать собственной рекомендации о счастливой жизни, данной доктору Львову: жениться самым обыкновенным образом на молодой девушке, богатой наследнице, его любящей. Зажить самой обыкновенной неприметной жизнью. Но поступить так— перечеркнуть собственное прошлое, предать его, Я-сегодняшний и я-вчерашний приходят в столкновение друг с другом. И остается единственный выход — самоуничтожение.
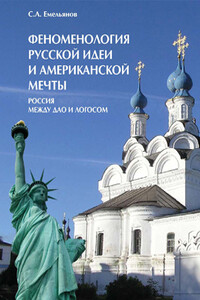
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
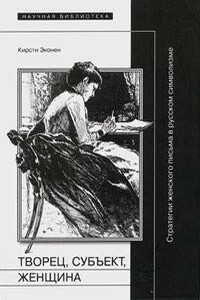
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.