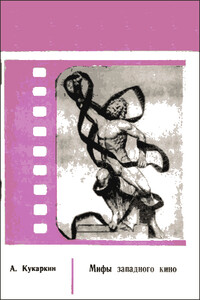Актер на репетиции - [5]
Актер не просит воспроизвести эпизод снова, но партнер ему необходим. Необходимо живое человеческое общение, необходимы глаза дяди Вани, может быть, две-три его фразы, чтобы воскресить в душе все, что уже было испытано на съемках. Воображение в данном случае едва ли не бессильно — ведь сразу нужно продемонстрировать результат, причем в самом наглядном его виде, действительно «сделать лицо», и все в исполнителе этой формальной задаче резко противится. Тут не каприз — тут невозможность, и режиссер тотчас это понимает. Съемка отменяется. Нужные планы будут сняты через несколько дней.
Чуть повернув лицо в сторону дяди Вани, Астров смотрит на него хмуровато и отчужденно. Не только не старается его утешить, но даже руки в знак сочувствия не положит на плечо. Только еле смотрит, а потом в ответ на одну из фраз кричит: «Перестань!» Но, странное дело, вы на него за эту холодность и за этот окрик не сердитесь. Больше того — вы вдруг начинаете ощущать, что из этих двух Астрову, пожалуй, труднее или, во всяком случае, не легче. Слезы дяди Вани, разумеется, не целительные слезы; выплакавшись, он не изживает свою боль, она лишь притихает на время. Но все-таки она притихнет, растворится в ласке Сони, в собственных словах, в «выговорах» того же Астрова. В слезах дяди Вани — смятение, в угрюмости доктора — отчаяние.
Во время съемок, определяя для себя задачу, Бондарчук скажет Смоктуновскому: «В этой сцене все отношение Чехова к действительности. Ничего у нас не выйдет, у тех, кто сейчас, потому и надеяться нечего, рыпаться нечего». Дядя Ваня злит его своими вопросами; Астров знает — и он спокоен, а Войницкий — в истерике.
«…Если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто… Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать…с чего начать…» — в этой страсти, в исступленной настойчивости вопросов отблеск надежды. А что говорит Астров? «Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно».
Вот это «безнадежно» сцену и определяет. Определяет для режиссера и для актеров тоже. Определяет, ведет и подсказывает странные, неожиданные, но тем не менее сразу же проникающие в вас детали. Еще не кончив разговора, Астров начинает вдруг щелкать на счетах. Сидит и щелкает — и не в задумчивости, не в машинальности, подводя итоги, еще и еще раз безжалостно утверждая, что «в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас». И услышав этот сухой, резкий, автоматический звук — именно звук, а не слова, потому что слова были сказаны раньше звука, дядя Ваня срывается с места и лихорадочно, исступленно начинает рыться в шкафу, перебирая одну за одной полки и вываливая их содержимое на пол.
Что он там ищет? Морфий — чтобы кончить все разом, не мешкая? (Эпизод «на ступеньках» идет после сцены, в которой Астров пытается догнать Войницкого и отобрать у него лекарство.) Поначалу мы так и думаем — морфий, особенно когда видим, как Смоктуновский быстро что-то схватит, сожмет в руке и сунет руку в карман. Однако, когда Астров, с трудом преодолев его сопротивление, вытащит руку и разожмет ладонь, на ней окажутся всего-навсего шарики — тяжелые, гладкие металлические шарики, которые дядя Ваня постоянно носит с собой, перебирая их наподобие четок.
Мы не спросим, зачем эти шарики, отчего эта вспышка, мы просто почувствуем, что эта точка — знак того, что душевные силы на исходе, что самоубийства не будет. Коротко, облегченно засмеявшись (но очень коротко, мгновенно, для дяди Вани не оскорбительно), Астров сдает его на руки вошедшей Соне, перепоручив ей взять морфий.
Эпизод длинный. Формально он распадается на две части — до прихода Сони и после ухода Астрова, — однако, по существу, он един. В нем силен, явствен и в какой-то мере завершен мотив, в характеристике героев Чехова едва ли не главнейший и намеченный в фильме тоже достаточно определенно. Определенно, но не полно — режиссер тут больше понимает, что мотив надо выразить, нежели находит средства, как это сделать. Однако что же это за мотив?
В своей работе «Время в пьесах Чехова» Борис Зингерман пишет: «Время — это юдоль страданий, это ложе пыток — уносит прочь мечты о личном счастье, влечет сквозь строй обольщений и разочарований. От юных надежд и очарований время влечет драматических героев к усталой трагической зрелости, ограниченной в своих возможностях, но не заблуждающейся на свой счет, а через нее — к новой надежде, не связанной уже с идеей личного счастья». И дальше: «Драматические персонажи Чехова живут в нескольких временных измерениях: стянутые тисками повседневности, их души чутко внимают мгновенным впечатлениям бытия и распахнуты вечности».
Тут найдена и названа природа чеховских персонажей, тот их особый секрет, который всегда волновал, но редко давался в руки. Связанное с такой категорией, как время, поэтическое бытие чеховских персонажей, или, вернее, понятие об этом поэтическом бытии, могло меняться и, естественно, менялось во времени, однако главное ощущалось неизменным. Это главное было связано с понятием духовной свободы как непременного условия существования. В той же работе сказано: «Они живут в медвежьих углах тоскливой, невежественной и несвободной страны, погруженные в поток обыденщины, — поток грозит подняться и захлестнуть с головой», и все же способны «быть начеку», чтобы не пропустить совсем иных призывов судьбы (расслышать «зовы новых губ»).

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.
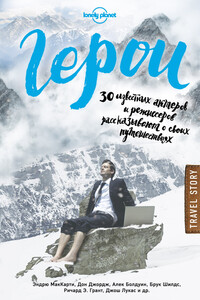
Основная идея этого сборника проста: актеры выступали рассказчиками еще во времена древних греков. И с тех пор как Голливуд вышел за пределы павильонных съемок, эти рассказчики посещали отдаленные уголки мира, чтобы потом поведать нам свои истории. Это «типичные представители Голливуда» – настоящие бродяги, чего от них требует работа и зачастую характер. Актеры всегда путешествуют, широко открыв глаза и навострив уши (иногда неосознанно, но чаще осмысленно). Они высматривают образы, особенности поведения или интонации речи, которые можно запомнить, сохранить на будущее, чтобы в нужное время использовать в роли.
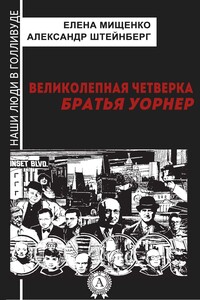
Книга «Наши люди в Голливуде» – это сложные и увлекательные биографии крупных деятелей киноискусства – эмигрантов и выходцев из эмигрантских семей. Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Данное издание посвящено основателям студии «Уорнер Бразерс», легендарным братьям Уорнерам – Гарри Уорнеру (1881—1958), Альберту Уорнеру (1883—1967), Сэму Уорнеру (1887—1927) и Джеку Уорнеру (1892—1976), чьи родители иммигрировали из Российской империи в США.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов в своей книге «Судьба и ремесло» ведет речь об актерском искусстве — в профессиональном и более широком, гражданском смысле. Актер размышляет о творчестве в кино, делится своим опытом, рассказывает о товарищах по искусству, о работе на радио.А. Баталов. Судьба и ремесло. Издательство «Искусство». Москва. 1984.