Актер на репетиции - [3]
«Он разбит, он раздавлен, свою ответную реплику: „Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому“ — он произносит как человек сдавшийся, ни на что больше не надеющийся». Так считает режиссер. Смоктуновский не аргументирует, но просто говорит эту фразу иначе — тихо, скороговоркой и с таким видимым усилием, что становится ясно: не сдачей продиктован его ответ, а желанием как можно скорее кончить тягостную и фальшивую сцену. А кончить ее можно только так — обещанием прежних благ. Ничто другое в их отношениях профессора ведь не интересует…
Снимают несколько дублей, пробуя и один, и другой, и третий — промежуточный — варианты. Тут дядя Ваня уже не опускает глаз, но так пристально-отсутствующе смотрит на Серебрякова, что тот на минуту теряется. Когда фильм будет смонтирован, останется впечатление, что выберут все-таки решение актера. В его репликах — не приниженность, но бесконечная усталость и опустошенность. Поэтому он и не пойдет вслед за отъезжающими — не найдет в себе сил пойти. И Астров не пойдет — все у него кончилось с Еленой Андреевной, на душе саднит, тошно.
Так завершается эпизод, но, прежде чем завершиться, он, как мы уже сказали, повернется к нам своей другой — комической стороной, которая у Чехова, а вслед за ним и у режиссера не только не снимает драматического напряжения, но придает ему более сильный, трагифарсовый характер. Так происходит и на этот раз. Серебряков ведь не случайно заговорил о трактате на тему «Как надо жить». Он занят им, а не обидой на дядю Ваню: в трактате его спасение, он конкретно обозначает переход к прежней — единственно для него возможной жизни.
Кончаловский просит Зельдина особенно не доктринерствовать, не показывать своего превосходства: он настолько в нем уверен, что демонстрировать его незачем. Серебряков сейчас скорее артист, пробующий свои силы, нежели проповедник. Трактат в нем еще складывается, это пока не сочинение, а приятная мысль о нем. Но все же, когда будущей брошюре находится вдруг и название: «Надо дело делать!», он не может сдержать своего довольства. Он и к Астрову подходит со своим открытием о необходимости дела, не замечая, как смешон, именно доктора упрекая в праздности. (Как тут не вспомнить брезгливость Чехова к либеральным рассуждениям «о библиотечках и аптечках», о малой пользе. Разговоры эти баюкали совесть и отодвигали в никуда реальные дела, реальную помощь, до которой тот же Чехов был такой охотник.) Теперь вот и Серебряков надумал спасать человечество, притом что до того занят собой, что не замечает, как светская реплика: «Благодарю вас за приятное общество…» — достается не кому иному, как няне Марине. С этим он и уезжает — процветать.
А финал был уже снят, и увидеть его довелось на экране. Увидеть, как Астров, проводив долгим взглядом отъезжающих, вошел к дяде Ване, как он уселся на диванчик и как медлил уйти, хотя сам же просил подавать лошадей и отказался от предложенного няней чая. Сидел и глядел, как Соня и Иван Петрович работают, как щелкают счеты, как нарочито ровно, чтобы не сорваться, звучат голоса: «…и старого долга осталось два семьдесят пять». И еще на Соню глядел — прощаясь, а она не подняла головы, но когда он отвернулся, посмотрела на него не таясь и пристально — тоже как бы в последний раз.
И снято все это было медленно и внимательно — его взгляд, ее взгляд, две головы, склоненные над письменным столом, и лицо Астрова, полуосвещенное неяркой лампой. На экране было это страдающее лицо, и на фоне его деловые реплики Сони и Ивана Петровича прозвучали неожиданно жестко и жестоко.
А ехать все-таки надо, все «задерживающие» слова были сказаны, рюмка водки на дорогу нехотя выпита, да и работник вошел с тем, что лошади готовы.
Помните знаменитую реплику: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!»? Реплику, которая трактовалась — и Станиславским в том числе — как знак освобождения, как крест на семействе Серебряковых и на всем том, что вошло с ними в жизнь Астрова. «Уехали — и слава богу, даже не жаль: кончится праздность, буду покоен, буду опять заниматься лесом» — так или приблизительно так читался внутренний смысл фразы. У Бондарчука реплика об Африке и жаре звучит иначе — появилась по другой причине. Появилась, чтобы скрыть слезы, вдруг набежавшие на глаза. Поэтому он и отходит в сторону, к карте, и прячется за первые пришедшие в голову слова. Взглянул на карту — там Африка, вот и сказал о ней. Сказать же о том, о чем действительно болит душа, Астров не в состоянии.
«Я не хотел такого финала. Мне казалось — Астров уедет и снова будет много работать, будет лечить людей, заниматься своей статистикой. Но когда я посмотрел на Соню, я внезапно отчетливо понял, что колесо моей жизни повернулось и что я уйду. С самого начала я все время чувствовал, что уйду, но сейчас мне стало ясно, что я уйду скоро».
Запомним это признание. В нем важно все, потому что все открывает тайны. В самом деле — хотел сыграть так, обосновал это так и вдруг сыграл иначе. Отчего? Не оттого ли, что с самого начала для себя знал, что уйдет, и знание это постепенно становилось уже не отвлеченным знанием, но второй натурой? И понадобился лишь толчок — живой контакт с партнером, атмосфера сцены, чтобы благоприобретенная природа заявила о себе сильно и неожиданно — в первую очередь неожиданно для самого художника. А может быть, тут что-то иное, скажем, воля режиссера, исподволь все направляющая, и актеру лишь кажется, что слезы брызнули вдруг? Вопросы были поставлены — на некоторые из них были получены и ответы…
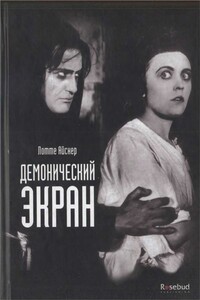
Знаменитая работа, принадлежащая перу самого влиятельного немецкого кинокритика, рассказывает о творческих поисках в немецком кино 20-х годов. Анализируя самый бурный период немецкого киноискусства, автор сочетает глубокое знание материала с философским взглядом на кино как зеркало духовной жизни общества. Исследование Айснер по праву называют «одной из очень немногих классических книг о кино и, быть может, лучшей из тех, что уже написаны».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.
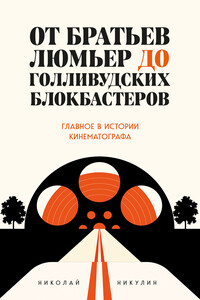
Если отдельно взятый фильм – это снимок души его создателя, то кинематограф 20 века – это безусловно отражение времени. Страницы истории наполнены как трагическими моментами, так и шутливыми. В этой книге собраны остроумные истории и апокрифические случаи, которые сделали кинематограф таким, каким он является в наши дни. И, разумеется, портретная галерея самых ярких режиссеров, в лице которых отразился прогресс и развитие индустрии, ее эстетическое формирование и концептуальное разнообразие. Вы узнаете о том, кто был главным соперником братьев Люмьер в создании первого фильма; почему именно Сергей Эйзенштейн оказал такое влияние на кинематограф; какое влияние на кинематографистов оказала живопись и другие интересные факты и истории, которые обязан знать каждый, кто считает себя знатоком кино.
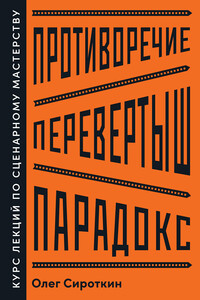
Секрет зрительского успеха кинокартины кроется в трех словах: противоречие, перевертыш, парадокс. «Положите в основу сюжета парадокс. Противоречие пусть станет неотъемлемой чертой характера персонажа. Перевертыш – одним из способов художественно решить сцену…» – говорит сценарист и преподаватель теории драматургии Олег Сироткин. В своей книге он приводит наглядные примеры, как реализуются эти приемы в кино, и помогает авторам в работе над сценарием – от идеи до первого драфта. Через разбор культового фильма «Матрица» Олег Сироткин дает понятную и простую схему сценарной структуры фильма. Он также рассказывает о специфике работы отечественных сценаристов и анализирует особенности сценариев для кинокартин различных жанров и форматов: от полнометражных фильмов до ультракоротких веб-сериалов.
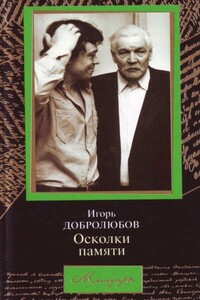
Добролюбов Игорь Михайлович - народный артист БССР, профессор, кинорежиссер, самыми известными фильмами которого являются "Иван Макарович", "Улица без конца", "Братушка", "Расписание на послезавтра", "Белые росы". Талантливый человек талантлив во всем. Режиссерский дар И.М. Добролюбова трансформируется в этой книге в яркий, искрометный дар рассказчика. Книга его мемуаров отличается от традиционных произведений этого жанра. Она написана настолько живо, что читается на одном дыхании. Курьезные случаи на съемках фильмов надолго останутся в памяти читателя.
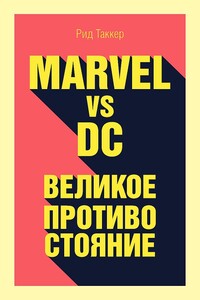
Книга о великом противостоянии двух гигантов индустрии комиксов и кино — Marvel и DC. Автор расскажет истории создания двух таких похожих на первый взгляд, но совершенно разных корпораций. Одна существует уже почти сто лет, а вторая — всего шестьдесят. Одна подарила нам Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину и Флэша, а другая — Человека-Паука, Капитана Америку и Железного Человека. Одна уверенно развивает киновселенную на больших экранах, вторая только встала на этот путь, но как успешно идет по нему. Помимо увлекательного рассказа в тексте много комментариев и историй от знаменитых людей — Уилла Смита, Зака Снайдера, Дуэйна «Скалы» Джонсона, Себастиана Стэна и, конечно, Стэна Ли. История многолетнего соперничества, взлеты и падения конкурентов, громкие ссоры и тихие информационные войны, создание величайших героев и закулисье вселенной — все это и многое другое на страницах этой книги! • Кто победит: Бэтмен или Капитан Америка? • У кого воровали персонажей? • Зачем Стэн Ли читал все письма фанатов? • Как DC украли лучшего художника у Marvel?

Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов в своей книге «Судьба и ремесло» ведет речь об актерском искусстве — в профессиональном и более широком, гражданском смысле. Актер размышляет о творчестве в кино, делится своим опытом, рассказывает о товарищах по искусству, о работе на радио.А. Баталов. Судьба и ремесло. Издательство «Искусство». Москва. 1984.