Академия Князева - [17]
– В общем, оба в штаны наложили! – вмешался Лобанов. -Сознайтесь, чего там, дело прошлое.
Лениво посмеялись, позевывая. Шляхов сипло кашлянул, повернул к пологу Высотина большую косматую голову:
– Есть тут мишка. Возле наших выработок давеча ходил один. Тоже, видать, здоровый, след вдлинь двумя руками не накрыть. По отвалам потоптался, стенку сверху обрушил и ушел.
– Похозяйничал, значит! – вставил Лобанов.
– Да, вроде того. Порядок навел. И вот решили мы самострел поставить. Огородили жердями с трех сторон четыре лесины, как загон, накидали туда рыбы, приладили мою бескурковку, стволы жаканами зарядили, а к спускам привязали жилку капроновую, миллиметровую, и протянули поперек загона. Рыба протухла, вонища кругом – за километр, должон прийти Михайло Иваныч. Он тухлятину любит, издалека чует!
– Вы сами-то под этот самострел не попадете? – спросил с насмешкой Лобанов.
– Ну, прямо, сами же строили, место все знают. А кто забудет, так Федька над входом фанерку прибил и череп нарисовал, дескать, не суйся! Ну, а мишка-то, он без понятия, грамоте не обучен! – И Шляхов, довольный своей шуткой, всколыхнул густым хохотком марлю.
– А мясо у них вкусное? – спросил Тапочкин.
– Мясо, сынок, доброе, сладкое, вроде оленьего, только покрепче. Варить долго надо.
– Ясненько, – пробормотал Тапочкин, хотя оленину он тоже не пробовал.
– Так ты нам крикни по рации, когда свежатина будет,- сказал Лобанов. – Придем в гости.
– Приходите, коли с поллитрой. А то к концу сезона забудешь, как она и пахнет…
– Эх, засосать бы сейчас с устатку пятисоточку! – восторженно воскликнул Тапочкин, – А, Коля?
Лобанов молчал.
– Ух и напьюсь же я в первой забегаловке! – радостно пообещал Тапочкин. – Отмечу свое возвращение в цивилизацию.
– Не забудь сухарей для вытрезвителя насушить! – посоветовал Высотин.
– Там не кормят, там наоборот! – тихо сказал Лобанов. И ему вдруг привиделись застиранные занавески столовой, где валяются под столиком порожние бутылки и в многоголосом угарном гомоне вспыхивают резкие, как удар ножа, выкрики. Его узнают, не дадут уйти. Начнутся долгие уговоры, взыграет чуткое к обиде хмельное чванство: «Ты что, не уважаешь?» И придется выпить первый стакан, а там будет уже все легко и просто, и все дозволено, сам черт не брат, и «пей, ребята, я угощаю!» – и закрутятся, завертятся перед глазами тарелки, лица. А потом сухость похмельной тоски, разламывающая голову дурнота, отвращение ко всему – и опять: «Пойдем, кирюха, полечимся!» Эх, пропади оно пропадом! Протянуть бы как-нибудь после поля пару месяцев, удержаться, а там Александрович обещал снова в тайгу отправить…
Матусевич думал о другом. Он лежал с широко открытыми глазами и видел, очень отчетливо видел, как в закопченном ведре булькает густая похлебка из медвежатины, а он сидит рядом, оглаживает приклад карабина и небрежно рассказывает о недавней схватке с хозяином тайги.
Кончался день – ничем не примечательный, один из ста в поле. То, что могли найти, – не нашли. То, что могло случиться, – не случилось. Самый обычный день.
Похрапывал у стенки Костюк, равнодушный ко всему, кроме жратвы. Вдали кукушка щедро отмеряла кому-то безбедные годы. Комарье мягко билось о полотнище палатки, как моросящий дождик.
– Еще одна отметочка в табеле выходов, – вздохнул Высотин. – Еще одну восьмерку заработали. Ну, ничего, мы сознательные.
– Чем это ты вдруг недоволен? – холодно спросил Лобанов. – Ты же итээр, ты же лучше нас знаешь, что в поле день ненормированный. За дождь тебе тоже восьмерки идут.
– Вам-то, повременщикам, восьмерки, а нам – полтарифа! – сказал Шляхов. – Как дождь, так актированный день. Для нас это – хуже нет. Все вкалывать приехали, а тут сиди.
– Сергеич, слышь? – позвал Высотин. – Что же теперь Жарыгину будет?
– Тебе-то зачем?
– Ну так, из любопытства. Может, сам когда-нибудь на его месте окажусь.
– Мало хорошего – на его месте оказаться. Не позавидуешь…
– Я тебя не понимаю, – сказал Высотин, – Вроде, жалеешь его и сам же на него жалобу принес.
– Чего тут не понимать? – спокойно сказал Шляхов. – Ясное дело, жалко. Потому и пошел. Кто другой, так по злобе али по глупости еще от себя подбавил бы чего. Князев и без того на расправу боек, а тогда уж и вовсе гаси лампу. Рубанет сплеча – и нет нашего Жарыгина. Поставят над нами командовать какого-нибудь разлемзю-недоделыша, пока к нему приноровишься да приглядишься, сезон долой. А Жарыгин – он какой ни есть, да свойный, с ним жить можно. Пужанет его Князев для острастки – и делу конец.
Шляхов протяжно позевал, добавил:
– Князева-то я давно знаю, еще на Курейке вместе работали. Он тогда совсем молодой был, гордый такой ходил, как петух. Но рабочего человека понимал. Больше с начальством лаялся. Девки там за им убивались – страшный суд!
– Ну, а он? – приподнялся на локте задремавший было Тапочкин.
– Он их не сильно праздновал. Все кралю свою, говорят, ждал.
– Эх, как же это он такие возможности упустил! – прищелкнул в досаде пальцами Тапочкин. – Я бы на его месте не растерялся. А та небось симпато пацаночка, а? – Он чмокнул губами. – Бутончик, небось?
– Красивая, – сказал Лобанов.
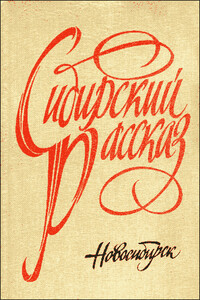
В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.